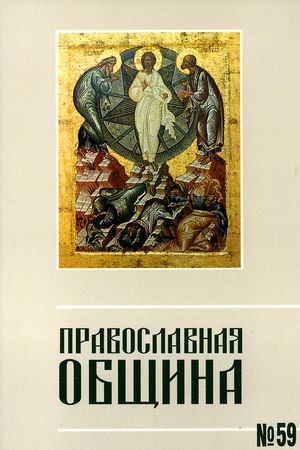Церковь — это корабль надежды
Беседа с Жоржем Нива, проф. Женевского университета
Семен Зайденберг: Наш журнал «Православная община» ставит своей целью собирать живые силы, которые есть в церкви, для того, чтобы открыть реальную перспективу церковной жизни в России. Дело в том, что в условиях нашей сегодняшней жизни, в которой очень много отрицательного, такая перспектива, к сожалению, очень часто у людей исчезает. Именно в связи с этим мы публикуем серию интервью, приуроченных к 2000-летию христианства. Церковь в России возрождается, а возрождение — это всегда одновременно взгляд и назад, и вперед. А 2000-летие — это и возможность подвести некоторый исторический итог и, в то же время, надежда на обновление. Мы также будем проводить конференцию «Память и беспамятство в церкви и обществе. Итоги истории XX века», также посвященную теме «христианство и история». Поэтому мы очень рады возможности поговорить с Вами, поскольку Вы — христианин и, что для нас особенно ценно, человек другой традиции, что дает возможность какого-то другого взгляда. К тому же Вы знаете русскую культуру, как мало кто сейчас в России.
Мы хотели бы начать с самого общего вопроса: что такое для христианина, для Христианства история? Как относиться к истории сейчас? Ведь 2000 лет — это все-таки очень длинный срок, за который было много всего: много хорошего и много плохого, много света и много тьмы, много крови и, к сожалению, не только мученической. Поэтому сейчас для Русской церкви это проблема: как относиться к собственной истории?
Жорж Нива: Я бы сказал, что нет христианства без чувства истории, потому что христианство — это включение Христа в историю, а не религия вне времени. Множество наших современников увлекаются вневременными религиями восточного толка. Интересно было бы узнать: почему и что их привлекает? Может быть, это противовес слишком лихорадочному ритму их жизни, вот этой псевдоистории, в которой мы все живем? Я говорю «псевдоистория», поскольку мы следим за событиями по телевизору…
Но вхождение в историю для христианина должно быть приоритетом, поскольку Христос появляется в определенный момент и не накануне этого момента и не на другой день, а в один исторический момент, и дальше Его учение развивается в истории. И естественно, у всех нас, христиан разных толков, есть как бы разные истории, и поэтому тот совершенно естественный факт, что мы живем в истории и в истории переживаем нашу веру, или живем этой верой, очень часто становится предметом раздора: мол, коли у нас разные истории, то и разные веры. Мне всегда казалось, что это ошибка, что разные исторические пути, наоборот, показывают именно эту глубинную истинность христианской веры, поскольку она развивается во времени до конца времени, до конца истории, и христианин ожидает конца этой истории, но ожидает этого конца не сию минуту. Может быть, первые христиане думали, что, действительно, через минуту будет светопреставление, Второе пришествие, а некоторые очень мистически настроенные люди и сегодня могут вновь переживать вот эти ожидания. Ничего плохого в этом нет, если только это не мешает включению в мир, в жизнь нашего мира и нашей современности. Я не могу себе представить христианина, который не живет в миру, хотя бы умственно, духовно. Я бываю иногда в монастырях и разговариваю с монахами, и вижу, что они тоже живут в миру. Хотя, казалось бы, они ушли из мира, но в этой своей пустыне своей молитвой они как будто живут в миру. А если их молитва вне этого мира, то у меня возникают сомнения в ее истинности. Между прочим, многие католические монастыри на Западе играют большую роль в жизни мирян, которые их посещают, приезжая, например, на неделю. Я бываю в одном монастыре, который называется «Богоматерь у семи источников», и там бывают и протестанты, и православные, хотя это строго цистерцианский монастырь. Пусть это сказано стороной: эта строгость не мешает открытости. И это тоже важный элемент.
Как нам жить в истории на пороге третьего тысячелетия? По-моему, есть разные пути, но есть одна цель — это жить и в Небесной республике, и в земной республике, как это объясняет один анонимный автор, который написал знаменитое Послание к Диогнету: «Мы живем и в той, и в другой стране», но жить только в одной было бы ошибкой.
Часто я слышу какую-то ностальгическую точку зрения, что уже нет веры, что мы живем в нехристианском мире и т.д. Мне кажется, что предыдущие века не были более христианскими, они были во многом языческими, дикими, жестокими. Ведь нельзя сказать, что потому, что когда-то христианство было официальным вероисповеданием, общество было христианским, — наоборот, это воспитывало поколения людей, ненавидевших христианство. Т.е. это было, собственно говоря, очень преступное дело. Это относится к нам на Западе, но это относится и к России также. Россия XIX века, где чиновник должен был исповедоваться раз в год по регламенту, — разве это была христианская страна? Христианская вера в принудительном порядке — это уже не вера христианская, поскольку она уже забывает о главном, т.е. о свободе личности. Надо сказать, что с этой точки зрения французское общество не отличалось от российского: во Франции какое-то время (при Реставрации и еще долгое время) тоже нужно было показать бюллетень, что ты исповедовался. Так что, я думаю, христиан всегда было меньшинство, они были, может быть, солью земли (правда, применяя это выражение, надо опасаться, как бы не впасть в гордыню). Поэтому я не думаю, что христианин сегодня имеет более трудную задачу, чем христианин вчера, только история меняется, контекст другой, но задача его такая же трудная: живи в этих «двух республиках».
Семен Зайденберг: То, что Вы сказали сейчас, — это, действительно, некий урок. История нас все-таки чему-то учит, но у меня, и не только у меня, складывается впечатление, что эти уроки, особенно в России, не извлечены, что многим людям хочется жить в некотором прошлом, в котором, как им кажется, эти «две республики» были совмещены. Есть огромный интерес к истории, но это интерес, скорее, реставраторский: не возрождение Церкви в той истории, которая ей сейчас дана, а реставрация Церкви конца XIX века или, еще лучше, — XVII века, а еще лучше — XV века, ну, у всех разные пристрастия…
Жорж Нива: Этим реставрационным попыткам не будет конца, ведь возникает вопрос: реставрировать что? Жизнь первых учеников? Но никто, собственно, не говорит об этом всерьез. Один хочет реставрировать церковь, как она была до Петра Великого или как она была в XIX веке, или у нас на Западе, — как она была при Людовике XIV, т.е. галликанизме. C моей точки зрения, это все довольно смешные попытки. Почему? Церковь жила своей жизнью в XVII веке, с огромными дефектами, но, наверное, также и с огромными духовными плодами для тех, кто искренно жил этой верой, но сказать, что это и есть идеальный образец и мы должны вернуться к нему, это, мне кажется, интеллектуальная и духовная ошибка и тупик, совершенный тупик. Почему, например, мы обязательно должны использовать церковнославянский язык или латынь, или какой-то другой определенный язык? Это все плоды истории, так сложилось, что для нужд верующих нужен был вот такой язык. Со временем он стал сакраментальным, но вначале он не был сакраментальным, он был ходячим (обиходным), нормальным языком. Нет, Вы не подумайте, я абсолютно не враг всех традиций, я, например, очень люблю (может быть, потому что какое-то время жил в Англии) англиканскую традицию, очень люблю англиканскую High Church и английский язык того перевода Библии, который был сделан в XVI веке, и если христианин-англичанин сегодня может жить внутри этой церкви и развивать ее, — прекрасно. Но это не значит, что мы все должны идти по этой модели, я думаю, что тут нужна смесь, нужно переплетение открытости к будущему, к поискам тех, кто ищет (нельзя их отвергать!), и сохранения некоторых традиций. Мой друг и учитель Пьер Паскаль очень любил мессы на латыни. Нет, он не был приверженцем владыки Лефевра и интегристов, наоборот, он отрицал их, но он просто мне говорил: «Вы знаете, я так привык, я очень люблю латинский язык». И он, хотя ему было за 80, приезжал через весь Париж, чтобы посещать церковь, где с разрешения владыки кардинала Парижского служили по-латыни, но не интегристы. Ну, это было умилительно, это было замечательно, ничего плохого в этом нет. И может быть, в некоторых приходах, между прочим французских, спешили слишком осовременить язык, а излишняя степень осовременивания языка тоже портит слух и устраивает некоторый шум в ушах прихожанина. Конечно, нужно избегать того, чтобы шумело, а должно быть звонко, это и на службе, но так должно быть и в жизни прихода, и во всей жизни Церкви.
Между прочим, что такое включиться в историю? Для меня это еще и быть простым прихожанином. Потому что приход — это собрание людей, которых не я выбирал. Я выбираю своих друзей, Бог мне прислал своих детей, но прихожан я не выбираю. Они, наверное, ищут то же самое, что и я, раз мы встречаемся в церкви или в храме, но конкретно надо привыкать к очень разным людям, которые имеют совершенно другую культуру, совершенно другие понятия. Я уже немало лет член совета пресвитеров своего прихода, и Вы знаете, что это масса проблем от самых мелких, низких, до иногда некоторых возвышенных. Но иногда вдруг какой-нибудь человек, например коммерсант, произнесет такую молитву, что просто удивляешься и понимаешь, что он или она живет совершенно удивительной внутренней жизнью! Это то, что я люблю в жизни прихода. Именно поэтому я не очень люблю, когда друзья-интеллектуалы в России мне говорят: нет, я не участвую в приходской жизни, потому что, ну, Вы же знаете ее уровень. Они ошибаются, потому что не в уровне дело! Надо общаться с разными людьми, это тоже наша участь, даже просто как человека, не только как христианина. Остаться в клубе своих единомышленников или людей твоего социального уровня — это легко, это может каждый, и все мы, конечно, любим наши клубы. Но церковь заставляет нас выйти из своего клуба — это то, что я ценю в церкви больше всего. Я не говорю, что это всегда легко, иногда бывает невыносимо трудно слушать до конца речь какого-то человека или вникать в какие-то козни, но в общем, когда я вижу, что этот корабль все-таки идет, направляется куда-то, и что это корабль со столь разными людьми, я считаю, что это главная наша надежда. Это корабль надежды.
Семен Зайденберг: Очень радостно это слышать, поскольку это как раз очень близко опыту нашей общины. Мы пытаемся выявить в нашей церкви то, о чем Вы сказали, — качество соборности Церкви. Ведь соборность Церкви можно понимать в том смысле, что она должна быть именно для всех — для бедных и для богатых, в том числе культурно и интеллектуально, для людей всех рас и национальностей.
У нас в России в связи с этим есть одна проблема. Дело в том, что на языке, теперь у нас принятом, приход — это не совсем то, что Вы говорите, приход — это куда люди приходят и откуда уходят, они друг друга просто не знают, и поэтому между ними не возникает никаких проблем, и уж тем более нет никакого пресвитерского совета. А община, в нашей терминологии, — это как раз люди, которые собираются не по собственному желанию или по интересам, а люди, которых приводит Бог и которые действительно стараются жить одной жизнью. Я знал общину, членами которой были женщина–водитель такси, профессор консерватории и адвокат, вот такие разные люди. Но к сожалению, именно в этом пункте мы сейчас встречаем огромное сопротивление. Есть люди, которые говорят, что община — это неправославно, а если неправославно, значит — и не по-христиански. И мы видим, что, с одной стороны, в людях есть огромная тяга к общению, к совместной молитве, где бы действительно люди раскрывались вот так, как Вы сейчас сказали, когда человек в молитве раскрывает самое сокровенное, самое ранимое и, одновременно, самое сильное, самое действенное в нем, и, в то же время, это оказывается очень трудным: ведь люди настолько разучились общаться, что им просто трудно это делать. Так вот, хотелось бы Вас спросить, что сейчас происходит в этом отношении в Вашей церкви, кальвинистской церкви, и вообще на Западе? Насколько это, по Вашему мнению, актуально, и как Вы видите проблему именно возрождения прихода, общины, какое бы слово мы ни выбирали, — именно как общества людей, которые живут некой общей жизнью и имеют личностное общение и ответственность друг за друга?
Жорж Нива: Вы знаете, для протестанта всегда есть такая опасность — индивидуализм, т.е. личное общение с Богом, чтение Библии, и — «мне не нужна церковь, мне не нужен пастор, и еще меньше мне нужна община». Часто сталкиваешься с замечаниями типа, что, вот, мол, церковь ничего не сделала для меня. Иногда я пытаюсь направить такого собеседника к идее, что церковь — это мы с тобой, и поэтому надо спрашивать, почему мы, а не «они» ничего не сделали, потому что «они» — это не Церковь.
Я тоже люблю большие соборы, где люди анонимны, где двери всегда открыты: входишь, уходишь, приходишь и слушаешь службу, будь это в католическом соборе, будь это в православном храме. Это не очень может быть в протестантском храме, потому что протестантский храм — это всегда собрание людей, которые должны иметь какой-то контакт, потому что, да, есть литургия, но есть и проповедь, и эта проповедь как-то обращается к каждому человеку именно посредством разума, посредством логоса, и поэтому образуются общины, где люди между собой рассуждают, говорят, молятся. Хотя в кальвинистской церкви есть литургия, но в ней меньше литургии, чем в лютеранской церкви, и в лютеранской — меньше литургии, чем в католической, а в католической — может быть, меньше, чем в православной. Но мне трудно понять, например, религиозную жизнь, где были бы службы без проповеди, потому что проповедь мне нужна, поскольку мне необходимо, чтобы человек передо мной — пастор, священник, владыка, в общем человек, который берет на себя эту ответственность, — попытался объяснить, как он применяет слова, которые мы читали из Евангелия, к задачам нынешнего дня. Не в узком смысле этого слова, например, как мы должны голосовать и т.п., но вообще: чем мы должны жить сегодня — с нашими компьютерами, или с нашими бедствиями и т.д.
Некоторые специалисты по религии, например, профессор Боберо во Франции, пишут, что «французский протестантизм должен исчезнуть, потому что он победил», — в том смысле, что католицизм стал протестантским и поэтому больше нет нужды в протестантизме. Это был, конечно, парадокс, и он знал, что это парадокс. Правда, сам он из протестантского толка пришел и забывает, какую роль играет еще и вес традиции, ведь и в протестантизме есть свои традиции, есть люди, которые любят именно этот обряд, именно этот тип проповеди и т.д., и в католицизме так же, но тем не менее, в этом парадоксальном утверждении есть и большая доля правды, в том смысле, что и католики и протестанты в такой стране, как Франция, не видят большой разницы между собой. Они могут знать, что есть богословские различия, что есть авторитет папы, сейчас вот вновь неожиданным образом вспыхнул небольшой спор об индульгенциях, поскольку папа объявил особые индульгенции в связи с новым тысячелетием, но в основном это так. Было, на мой взгляд, несколько стадий развития этих отношений. Был фазис, когда католики и протестанты открывали друг друга, был интерес друг к другу: просто интересно было ходить в соседние храмы, посмотреть, послушать, как люди молятся, как проповедуют. Потом было удивление, что, в конце концов, одна вера, одна молитва «Отче наш» и т.д., но потом это дело где-то застряло, потому что богословы дошли до последних споров. Правда, один лютеранский богослов мне в этом году победоносно объявил: «Вы знаете, в этом году мы теперь уже кончили с мариологией!» Я говорю: «Как?!» — «Мы добились полного согласия с католиками». Я даже не знаю, что это значит точно, и не особенно интересуюсь. Я знаю, что останется какой-то пиетет к образу Марии у католиков, чего нет или есть, но в меньшей мере, у протестантов, и это хорошо, ничего плохого я в этом не вижу, но в основном (и это доказывает «неделя общей молитвы», т.е. третья неделя января) верующие люди осознали, что у всех нас это одна и та же вера.
Например, в наш приход приходит католический священник и говорит проповедь. Все идет по протестантскому, скажем, обряду, но проповедь говорит он, и это взаимно: наша пасторша (ибо у нас это дама) говорит проповедь на обедне, но это именно католическая обедня, т.е. в каноническом ходе службы ничего не нарушается. Другое дело, что иногда бывают экуменические вечера, экуменические молитвы, выработаны общие литургические тексты, это означает, что пройден какой-то этап, что какие-то препятствия исчезли и что, оставаясь протестантами или католиками, люди осознали, что цель одна, и эта цель — не совсем оцерковление общества, как говорит о. Сергий Булгаков, это нечто другое, — но это все-таки внедрение духовной жизни, церковной жизни в общество. Например, через профсоюзы. Среди некоторых предпринимателей, капиталистов, есть такая довольно сильная организация «Христианские предприниматели». Теперь вообще все больше и больше говорят о некотором «христианском капитализме» в кавычках, т.е. чтобы люди, которые хотят вкладывать деньги, имели свои этические критерии, чтобы выбирать. Это, конечно, не главное, но главное — это чтобы каждый на своей работе имел то, что кардинал Ратцингер называет ортопраксис, потому что ничто так не вредило христианству, как пропасть между проповедью и делом, словом и делом. Это уже невыносимо сегодня. Это было, наверное, невыносимо еще в XIX веке, но тогда, правда, люди привыкли, были, например, христианские коронации, христианские торжества при невероятной нищете части общества, но сегодня это невыносимо.
Что же касается России, я понимаю, что Россия на другом этапе: что после семидесяти лет преследований, иногда мученичества, иногда предательства, церковь находится на другом этапе, к тому же традиция другая, т.е. церковь — это как будто остров красоты, сакраментальной красоты, я очень даже остро это ощущаю, но при всем при том православие тоже должно внедриться в общество, но не путем торжественных случаев, не тем путем, что, например, освящают завод, полк, парламент или еще Бог знает что, «мерседес», потому что это контрпродуктивно, хотя бы потому, что для неверующего это просто издевательство, и мы должны избегать скандалов такого типа. Вместо этого нужно попытаться найти, каким путем при нынешних социальных проблемах мирянин может повлиять на общество, — вот что очень важно. Я уже не говорю о монахах, о сестрах милосердия, которые помогают обществу, но и мирянин тоже должен подумать о том, как помочь обществу. Некоторые социальные явления в России просто невыносимы для любого человека и, тем более, для христианина. Нужно посещать сиротские дома и, наверное, тюрьмы. Я помню, что о. Павел мне рассказывал о своих посещениях тюрем. Конечно, можно сказать, и часто услышишь такой ответ, что, ну, тюрьмы, — у нас есть сейчас другие заботы кроме тюрем… Но Россия не может остаться при этом ответе! У меня, естественно, нет готового решения этой проблемы, но остановиться на этом нельзя, надо идти дальше, надо искать, надо, чтобы образовались, например, группы посетителей тюрем, которые помогали бы заключенным, нужны такие группы и во всех других областях, т.е. наверное, христианская включенность в решение духовных и социальных проблем окружающего общества, пусть на очень скромном уровне, но возле себя. Христиане также должны выработать некоторые политические правила поведения, например, насчет войн, в особенности в Чечне.
Семен Зайденберг: А какие еще проблемы церкви в России Вы видите сейчас? Как Вы оцениваете ее действия за те 10 лет, что она на свободе?
Жорж Нива: Меня очень смущает проблема свободы вероисповедания, смущает новое законодательство относительно этого в России. Смущает потому, что мне трудно сделать заключение относительно этой проблемы. С одной стороны, я понимаю протесты некоторых православных средств массовой информации против вторжения иностранных проповедников, вер и т.д., но с другой стороны, мне трудно согласиться с тем, что надо запретить или наложить очень строгие ограничения на свободу вероисповедания, потому что если один рабочий из Красноярска находит свой духовный путь в местной методистской общине, я не вижу, зачем ему препятствовать и почему эта методистская церковь не должна иметь полное юридическое право на существование наравне с православной, хотя, конечно, она не играла в истории России той роли, которую играла православная церковь, — с этим никто не может спорить. Где найти общую линию, я не знаю, ну, это как совместить вот эти две республики из Послания к Диогнету, это очень трудно найти. Это не компромисс, здесь не может быть компромисса, это нечто другое. Но во всяком случае, жаловаться на вторжение протестантизма или евангелистов, как я очень часто слышу, малопродуктивно. Наверное, наилучший ответ, — это чтобы православная церковь стала более открыта для тех людей, которых привлекают более упрощенные виды вероисповедания.
Теперь насчет сект, которые не христианские, потому что их тьма-тьмущая. Это еще труднее, потому что сам я не хочу давать им свободу, я хочу, чтобы им была положена граница. Но с другой стороны, как гражданин я задумываюсь: а где будет эта граница и почему мы, христиане, можем определять эту границу? А если кто-то хочет быть свидетелем Иеговы или буддистом? Граница, наверное, должна быть там, где начинается криминальность, как это довольно часто бывает с некоторыми сектами. Других границ, в конце концов, мне кажется, на пороге третьего тысячелетия мы не можем ставить, именно на пороге третьего тысячелетия. В конце концов, ученики Христа были маленькой горсткой, они не занимали доминирующих позиций, так что в этом смысле, если мы будем бедны, то ничем не будем отличаться от наших предшественников. Триумфальные же или грозные речи по отношению к новым пришельцам на арене, скажем, веры, мне кажутся опасными для России. Хотя, повторяю, сам, лично, я не хотел бы их распространения, наверное, просто потому, что всю свою жизнь изучаю русскую культуру. Я, конечно, люблю больше всего православную веру, уважаю ее, пытаюсь знать ее историю, традиции… но время от времени надо перечитывать Льва Николаевича Толстого и его едкую сатиру на церковь конца XIX века в «Воскресении», он тоже прав! Нельзя, чтобы церковь окостенела или стала властью мирской.
Семен Зайденберг: Скажите, вот Вы профессионально занимаетесь русской культурой, но есть ли для Вас в православии, в особенности, может быть, в православии этого века или прошлого века, какие-то имена, какие-то люди, которые для Вас были бы именно свидетелями Христа, т.е. которые Вам были бы важны в первую очередь не только как историку культуры, но и как христианину?
Жорж Нива: Да, я бы назвал двух таких людей. Первый — это протопоп Аввакум, потому что помимо красоты, величественности и современности его Жития, меня поражает его вера: это вера до конца. Помните эти жалобы его жены, которая говорит: до какого момента мы пойдем, когда мы остановимся? А он всегда отвечает: до конца. Я понимаю, что с ним трудно было его современникам: когда он писал царю Алексею Михайловичу, царю нужна была вся его кротость, чтобы не сжечь его немедленно, хотя, в конце концов, его сожгли. И вот этот дух церковного бунта всегда очень силен был в России.
А другой человек — это Серафим Саровский. Когда я стал читать двухтомник его ученика, когда вместе с простыми паломниками был в Дивееве, тут я почувствовал какое-то улыбающееся православие, — а это не всегда улыбающееся явление, — и меня это поразило! Оказалось, это тоже возможно, это другое лицо православия. Потом я стал интересоваться, как и когда его объявили святым, прочел про все эти торжества начала XX века, что думали Андрей Белый и Александр Блок, все эти богоискатели, о нем. Я думаю, что это открытие Серафима Саровского (а его, в конце концов, два раза открыли: в начале XX века и вот теперь, в начале 90-х годов) сыграло немалую роль для России, и очень важно, что из него сделать, так сказать, сурового борца невозможно, он все равно останется кем-то другим, он все равно показывает другое православие, другое христианство, другой лик христианства. Ферапонт Достоевского никогда не полюбит Серафима Саровского.
Так что вот эти два противоположных, по-моему, мужа — Аввакум и прп. Серафим — для меня, во всяком случае, символизируют веру в России.
Семен Зайденберг: Мы знаем, что в католической церкви есть довольно большой интерес к православной традиции. Я недавно ходил по Женеве, и даже по Парижу и, заходя в храмы, видел репродукции православных икон на самых видных и литургически важных местах. А вот в протестантизме есть ли что-то подобное? Жорж Нива: Абсолютно то же самое. «Троица» Рублева — Вы можете увидеть ее как в католических церквах, так и в протестантских храмах, где, в принципе, нет никаких изображений, но давно нарушают этот запрет. И это очень характерно: «Троица» Рублева стала образом, который объединяет Европу своим вот таким тихим мистицизмом, гармоничным мистицизмом, наверное, и она, в конце концов, символизирует единство этих трех церквей, про которое Владимир Соловьев пишет в «Трех разговорах».
Увлекаются православием. Очень искренно. Иногда это, конечно, может нести оттенок отталкивания от своей веры, потому что надоело, и какие-то службы появились, слишком далеко уходящие от традиции, — с электрической гитарой и с переводами на «ежедневный французский язык» (так называется один перевод, которым мы пользуемся в некоторых приходах), и настолько это раздражает, что вот и возникает такая реакция: «уйду к православным». Это замечательно, это хорошо, если только это не чисто эстетический шаг, хотя, впрочем, я ничего плохого не вижу и в эстетическом шаге, потому что красота православной службы, про которую говорил Владимир Красно Солнышко, она есть, она будет, и совершенно естественно, что она привлекает.
Семен Зайденберг: Вы затронули проблему богослужебного перевода. Как Вы считаете, тот опыт разных литургических переводов, который есть сейчас на Западе, дает сейчас какие-то положительные плоды? Как люди воспринимают эти переводы и есть ли уже какой-то плод совместной работы?
Жорж Нива: Ну конечно. Есть экуменический перевод на французский язык, — Иерусалимская Библия, — в котором участвовали и православные ученые, и протестантские, и католики. Правда, православные не участвовали в написании примечаний, потому что в примечаниях сказывается иногда католическое богословие, но остальные два вероисповедания шли больше навстречу друг другу, находили какие-то компромиссные формулы, или наоборот, в них объяснялось, что по-католически это так, по-кальвинистски это так, но во всяком случае, это экуменический перевод. Это не значит, что он самый лучший. Я, например, пользуюсь переводом каноника Ости. Это католический священник, который всю Библию сам переводил, и это имеет один плюс, это некоторое единство стиля, но это может быть и минус, потому что Biblia — это все-таки Книги, а не книга. Во всяком случае, теперь мы повсюду, в любом храме, пользуемся переводами на французский язык, и это потому, что верующий народ теперь хочет понять весь текст, не хочет, чтобы оставались в тени некоторые слова, некоторые формулы на сакраментальном языке, ему неведомом. Конечно, можно сказать, что те прихожанки, которые не знали по-латыни, все равно что-то чувствовали, или это было связано эмоционально с чувствами религиозными, — да, но тут опять-таки я считаю, что какой-то разум нужен, т.е. необходимо пользование нашим разумом, а не только нашими чувствами, а если разум, то это значит — логос, который нам понятен, хотя бы частично. Я знаю, что в России это жгучий и острый вопрос и что ваша община очень связана с этим вопросом. Я также знаю, что есть приходы в России, где уже много молитв читается по-русски, только об этом не объявляется. Мне кажется, что в православии канонически ничто не мешает переводам, это уже признанный факт. Может быть, я тут реагирую как протестант, не отрицаю, но мне кажется, что все-таки христианство будет лучше жить, когда любой прихожанин будет понимать больше, по крайней мере слова всех молитв, будь то молитвы из отцов церкви, из Евангелия, потому что я не вижу, почему и в России верующий человек не должен пользоваться своим разумом, он такое же разумное существо, как француз или новозеландец.
Семен Зайденберг: Вопрос в продолжение того, о чем Вы говорили. Для меня уходящее тысячелетие — это все-таки тысячелетие разделений, начиная с 1054 года, схизмы между православием и католичеством. Потом, уже на Западе, был протестантизм и много-много всего, а на Востоке — старообрядческий раскол в России, и уже последние расколы — греческие старостильники и раскол с Зарубежной церковью в Русской церкви и лефевристский раскол в католичестве. Как Вы считаете, может ли реально наступающее тысячелетие стать тысячелетием единения?
Жорж Нива: Я уверен, что да! Только это не будет единение в виде одного папы или одного вселенского патриарха. Скорее, это будет то, что предвидел в «Трех разговорах» Владимир Соловьев, т.е. какое-то символическое объединение, где Петрос и Паулюс и Иоаннес, — каждый имеет свое значение. Но еще и другие будут, не только эти трое, потому что мы не можем ограничить христианство. Нам надо будет дойти до идеи, что различие традиций — это выражение богатства, а не выражение ущербности, т.е. нужна целая внутренняя революция, переворот, тогда мы будем смотреть по-другому на эту проблему, и тогда начнется, наверное, нечто вроде объединения церквей и верующих, но, может быть, с одной оговоркой, что все-таки надо будет также уточнить отношения с евреями. Пока христианин не поймет, что где-то на уровне истории еврейская вера старше его веры и он черпает из этой веры, как сын черпает из склада отца, это не будет полное христианство, т.е. христианство, как ему учил Христос, Который был еврей. Конечно, Он совершил в этом отношении революцию, — тем, что Он привлек и не евреев, но мы так далеко ушли, что часто об этом забываем. К сожалению, и в России очень часто об этом забывают, и часто читаешь такие ужасающие вещи, а иногда и на паперти продаются такие антисемитские вещи, что просто глазам не веришь, как это может быть у христианского храма, но это есть! Это часть проблемы, но когда мы решим эту проблему, тогда, я думаю, остальные сами решатся.
Семен Зайденберг: Спасибо, Георгий Иванович. Ну, и в заключение, может быть, Вы хотели бы что-то пожелать верующим людям в России сейчас — как христианин и как человек, который любит Россию и знает ее не понаслышке?
Жорж Нива: Ну, я ничего другого не хочу сказать, кроме одного, что они — христиане в России, и православные в России, и ваша община — должны радоваться тому, что они есть. Это большая радость для них и для нас. Вы очень нужны нам, западным христианам… (обрыв факса)
7.12.99, Женева