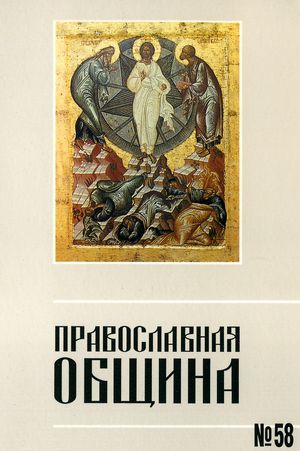Объяснение (по поводу обвинения в еретическом модернизме)
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Евлогию, митрополиту Западно-Европейских Русских Православных Церквей.
На запрос Вашего Высокопреосвященства по поводу Послания Архиерейского Синода русских епископов заграницей от 18(31) марта 1927 г. честь имею дать следующие разъяснения.
В этом «Послании», между прочим, дается неверное толкование и неверная оценка моей статьи от 1916 г. «Реформа, реформация и исполнение церкви», перепечатанной в евразийском сборнике «На путях» в 1922 г. (Берлин). А именно, утверждается, что это мое произведение является «общим призывом к реформации». Что может быть неожиданнее по отношению к этому моему этюду?
I
На самом деле статья моя представляет собою, смею думать, не бледное, а яркое отрицание, прежде всего, широко распространенного в церковных кругах повышенного интереса к реформам в церкви. Меня можно упрекнуть в пренебрежительной, низкой оценке реформы, а не наоборот. Интерес к реформе церкви я называю интересом нерелигиозным, а «полуполитическим» (с. 30, 33), и церковь, реформированную по мерке либерализма, я называю «церковью выдохшейся» (с. 41). Напротив, «инстинкт церковных черносотенцев» я нахожу «неизмеримо глубже, подлинно церковнее, чем стремление церковных либералов» (с. 40).
Тем не менее, я, конечно, признаю то простое благо от реформы, которое сводится к восстановлению свободы канонического самоуправления церкви и независимости ее от вредной опеки государства. Да, я признаю, что этой опекой «церковное сознание подавлялось» и «церковным силам закрывался выход к новому творчеству» (стр. 43). Но я признаю это, можно сказать, последним из последних. Я не могу этого не признать вслед за всей русской иерархией, которая двести лет воздыхала под бременем «Духовного регламента». Из этих воздыханий, лишь изредка попадавших под перо, можно составить большую книгу. Когда же появилась возможность обнаружить эти воздыхания, они полились рекой, в чем приняли участие и некоторые из иерархов, подписавших данное «Окружное послание». Так было в 1905 г.: см. официальное издание Св. Синода — четыре фолианта «Отзывов епархиальных архиереев о церковной реформе» (СПб, 1906 г., всего — 1960 стр.). В официальной «Сводке» из этих отзывов (СПб, 1906 г.) мы читаем: «Самостоятельная деятельность парализована близким решающим участием государственной власти в делах церкви и отсутствием средств для проведения своих решений в жизнь. Лишившись основного канонического строя, Российская Православная Церковь не могла уже сохранить тех проявлений церковной жизни, которые вытекают из основного начала — соборности. Для освобождения православной российской церкви от того неканонического и крайне стеснительного состояния, в котором она находится в наше время, необходимо возвратить ей утерянное начало соборности». За год перед тем митрополит Петербургский Антоний [Вадковский]См. его «Вопросы о желательных преобразованиях в постановке у нас православной церкви» // Православная община. № 43 (1998, № 1). С. 60—63., приглашенный в особое совещание Комитета Министров (на основании Высоч. Указа от 12 декабря 1904 г.) по вопросу о подавленности церковного сознания, сдержанно по форме, но глубоко по существу, выражался так: «Не благовременно ли устранить или хотя бы в несколько раз ослабить ту постоянную опеку и тот слишком бдительный контроль светской власти над жизнью церковной и над деятельностью церковного правительства, который лишает церковь самостоятельности и инициативы и, ограничивая область ее ведения почти одним богослужением и исправлением треб, делает ее голос совсем неслышным ни в частной, ни в общественной жизни? Не следует ли поэтому предоставить православной церкви большей свободы в управлении ее внутренними делами, где бы она могла руководиться, главным образом, церковными канонами и нравственно-религиозныыми потребностями своих членов и, освобожденная от прямой государственной или политической миссии, могла бы своим возрожденным нравственным авторитетом быть незаменимой опорой православного государства?» (Н.Д. Кузнецов. «Преобразования в Русской Церкви». М., 1906. С. 9).
Странно, что в наши дни вдруг оказались как бы забытыми азбучные истины, выстраданные в вековых томлениях русских церковных душ, и их готовы счесть за досужее измышление «сомнительных по православию» лиц.
II
Но если по отношению к реформе церкви, которую я в своей статье не проповедую (отмежевываясь от патетических либералов), а просто как историк описываю и предсказываю (что и сбылось — положительно в Соборе 1917—1918 г., и отрицательно — в живоцерковничестве), я еще могу быть причислен к ее сторонникам, то по отношению к реформации счесть меня ее проповедником — это значит не понять в моей статье ровно ничего. Смею, опять-таки, думать, что если и есть что-нибудь в нашей публицистической литературе (не говорю об ученой, малодоступной) наиболее яркое по остроте отрицания реформации, так это моя статья. Если хотите, это моя миссионерская заслуга перед православием, ибо я, наперекор обычному предрасположению к духу реформации, резко «утверждаю ее существенную вредность». Это главное полемическое положение всей моей статьи. Вот, для примера, буквальные выражения: «Мы обязаны резко разойтись с весьма распространенным взглядом на протестантскую форму христианства как на высшую и дающую разрешение современным запросам человечества. Мы должны признаться, что не разделяем ни того благоговения, с каким относится у нас прогрессивное общественное мнение к реформации, ни того страха, который вызывает она у консерваторов. Мы считаем нужным отвести этому явлению надлежащее, не особенно важное и не особенно интересующее нас место. Реформация в русской стихии не новость. Штунда, толстовство, баптизм и другие секты протестантского образца достаточно показывают, к какому умалению роли христианства в истории повела бы у нас всеобщая реформация. Уводя религиозную энергию в захолустье личного пиетизма, отрешая ее от всяких связей с государством и обществом, эта, уже русским опытом изобличаемая, реформация может радовать только врагов христианства, а может быть, и религии вообще, уступая им дорогу для свободного, вне конкуренции, построения вавилонской башни социального устроения людей без Бога. Нет, упования, возлагаемые нами на христианство и церковь, никоим образом не могут быть связаны с реформацией. Значит, нам не по пути с реформацией. И если к внешней, полуполитической реформе Русской церкви мы установили не очень патетическое отношение, если даже мы позволяем себе относиться к ней иногда безразлично, то к реформации в ее строгом и полном объеме мы должны отнестись не иначе, как враждебно. Ибо существо реформации не в тех частных полезных влияниях, на которые было указано и которые мы приветствуем. Суть ее — в убиении Церкви, т.е. той главной основы, от которой мы ждем всего» (с. 51—52).
Но борясь таким образом с реформацией, я опять-таки не в порядке проповеди, а в порядке исторического наблюдения и фактического предвидения констатировал неизбежность соприкосновения русской церковной жизни с некоторыми последствиями реформации, ставшими «слитыми теперь, так сказать, с самим воздухом современности» (с. 44). Я предсказывал, что это влияние «внесет в церковь плодотворную модернизацию мысли, психики и практики. Эта модернизация приспособит Русскую освобожденную церковь к новой жизни, так как теперешние их взаимоотношения безнадежно плохи и наносят невознаградимый ущерб делу церкви. Сейчас церковь имеет власть лишь над темными умами, примитивными, неорганизованными массами и потому двигать историю не в состоянии. Тогда она приспособится к передовому, творческому сознанию культурных групп и вместе с ними сможет участвовать в создании культурной истории» (с. 47—48). О чем я здесь говорю? Ясно, что не о каких-нибудь догматических, канонических, моральных изменениях и не о чем-то совершенно новом в жизни Русской церкви, а о том, что уже было и есть, но что может быть значительно количественно усилено. Разумею то мощное научно-богословское и общее просвещение всех учащих и управляющих сил церкви, которое так заметно преобразило внешний лик Русской церкви с эпохи Петровских реформ и сделало ее церковью, первенствующей на Востоке. Т.е. речь идет не о чем-то существенно-внутреннем в церкви, а лишь о ее внешнем историческом приспособлении к исполнению ее внешней исторической миссии в обстановке современности. Ибо церковь во всякую эпоху и во всякой культуре может, если хочет, занимать место соучастника в процессе общего исторического движения. Особенно восточные церкви охотно становятся национальными, т.е. идущими нога в ногу с судьбами духовно окормляемых ими наций. И чтобы не было сомнения, что я говорю здесь только о модернизации чисто внешней, технической, миссионерски-практической, а не проповедую внутренний опошляющий модернизм, я сейчас же непосредственно после процитированных слов на с. 48 добавляю: «С другой стороны, влияние реформации может быть вредоносным. Дух рационализации и секуляризации может повести к величайшему обеднению церкви, к упразднению ее теократической души, т.е. выбросить за борт весь запас социальных заданий христианства. Тогда получится умиротворенная, очень удобная для светской безрелигиозной культуры национальная Русская церковь как одна из ничтожных восточных церквей, навеки бесплодная, уже не Церковь в собственном смысле. Иные, впрочем, не сознают этих обоюдоострых влияний реформации, а потому их, видимо, и не пугает последняя перспектива». Приведенными словами я предусматривал пошлость живоцерковщины с ее Александрами Введенскими и прочими большевиствующими лжепопами.
Не могу себе представить, каким образом интеллигентный читатель моей статьи может, после сказанного в ней, признать за мной проповедника реформации и модернизма?
III
Третье обвинение, выдвинутое против меня в «Окружном послании», касается моих мыслей о необходимости оживления в нашей церкви пророческого движения, или пророческого подъема для энергичного участия нашей церкви в разрешении злободневного, с точки зрения исторического момента, социального вопроса. Выдвинуто это обвинение неясно, мысли процитированы отрывочно и искаженно, с тенденциозными умолчаниями.
«Окружное послание» ложно внушает читателю, будто речь о пророческом подъеме в церкви и есть именно то содержание, которое я вкладываю в идею реформации. Как раз наоборот: я всю предшествующую главу о реформации для того только и написал, чтобы отвергнуть реформацию как неспособную и прямо вредную стихию для церковного разрешения социального вопроса. И после того, как реформация мною отвергнута, я приступаю к восхвалению полноты-«исполнения» догмата Церкви, и только на этой полноте (а не на враждебной ей реформации) строю свое упование о разрешении всех вопросов ведения и жизни.
При этом я утверждаю, что без особого пророческого вдохновения и расширения практики церковной нельзя церкви стать властной руководительницей новой культуры и социального движения, с которыми церковь разобщилась с эпохи Возрождения и которые она, так сказать, покинула на их собственные силы и предоставила им блуждать по путям духа тьмы. Пророческими я называю все творческие моменты в истории церкви. Творчество Вселенских соборов есть пророческое творчество: «изволися Духу Святому». Творчество отцов и учителей церкви — пророческое творчество. Соединение императором Константином христианства с Римской империей — пророчески-творческое действие. Но этим пророческое вселенское творчество Церкви не исчерпано и не закончилось. На запросы новейшей и, если угодно Господу, может быть, еще многотысячелетней будущей истории Церковь должна и может отвечать новыми творческими актами, пророчески ярко оформляющимися в ее соборных достижениях в критическую минуту ее кафолической миссии. Законно и праведно ждать через присно животворящего Церковь Духа Святого непрестанного плодоношения Церкви: и новых святых, и новых чудес, и новых отцов и учителей церкви, и новых Вселенских соборов, и новых формул вечно неизменного в существе апостольского залога веры, новых проявлений духовной и нравственной силы Церкви в исторической жизни народов. Новых в том же смысле, как новой была церковь необрезанных для апостолов обрезания, как ново было египетское монашество для церкви и деяний апостолов, как новы были Первый вселенский собор и учение о Св. Троице великих каппадокийцев для мужей апостольских — патриархальных Папия, Климента, Ерма, как ново было постановление об иконах даже для богомудрых светил высочайшего богословия — отцов Халкидонского собора, как ново все плодоношение Церкви в истории на основе неотменяемого старого, как плоды, цветы, листья, ветви и ствол дерева не отменяют друг друга и в особенности — его корней. Приписывание мне призыва «к отступлению от истины, хранящейся в Церкви со времен апостольских» посему считаю явно несправедливым и ничем не доказанным.
Может не нравиться моя терминология. Может казаться чрезмерным термин «пророчество» в применении к творчеству и церковному и, особенно, общекультурному. Но это уже вопрос второстепенный. Важна мысль, а не слово. Тем более, что моя статья не является ни учительным словом (ex cathedra), ни каким-либо катехизическим изложением, ни символом веры. Это простое светское публицистическое произведение, правда, на церковную тему, все фразы и слова которого — особенно по истечении двенадцатилетнего промежутка времени! — я не собираюсь упорно защищать. И более того — готов был бы все благожелательные критические указания соединить с моей собственной самокритикой и переизложить все написанное лучше, точнее, совершеннее, если бы это для чего-нибудь понадобилось впредь. Но термина «пророчество» я держусь сознательно, в противовес еще господствующей в нашем светском просвещении позитивистической и чисто номиналистической манере мыслить о всем духовном абстрактно, т.е. рационалистически. Этот рационализм свойствен и большинству представителей нашей богословской школы, которую я проходил и достоинства и недостатки которой я впитывал в себя одновременно с некоторыми нападающими на меня иерархами. Мне ясно, что в данном вопросе их отделяет от меня привычка к школьной абстракции там, где я резко перешел к платоновскому реализму, родственному всей древней религиозности, как языческой, так и иудео-христианской и истинно-церковной. Для меня нет абстракций в том, что всякое творчество «вдохновенно». Да, всяким руководит «дух», но или благой, или злой. Все «вдохновенное» — пророчественно в буквальном смысле, т.е., опять-таки, — или от Духа Божия, или от лукавого, иначе — пророчественно или лжепророчественно; но и «лже» — в реальном смысле стоящего за ним духа злобы. Нет ничего пустого, абстрактного, только словесного, безразличного. Все служит или Христу, или Велиару. Или находится под сталкивающимся воздействием Духа Божия и «духа лестчя», как например, одаренное свободой сердце человеческое колеблется и отдается то той, то другой духовной силе. Тут вопрос становится сложным, и без дара различения духов невозможно в нем окончательно разобраться. Для данного случая мне важно подчеркнуть одно, а именно — что никакое вдохновенное творчество, самое естественное, внецерковное, языческое, не внедуховно и должно быть духовно квалифицировано знаком плюс или минус. И именно ничуть не обязательно все естественное и внецерковное рассматривать под знаком минуса. «Царь Небесный везде сый и вся исполняяй» животворит не только Тело Христово — Церковь, но и всю тварь, и дышет, идеже хощет
. Он благодатью Своею «предваряющею» призывает к спасению весь мир и «всякое благое воление в человеках» устремляет, не насилуя свободы, к единому центру и стержню творения — Творцу-Логосу, Возглавителю всех «небесных же и земных, и преисподних». Посему когда в судьбах истории церковь находится, так сказать, в ссоре и разлуке (верим — временной) с общей культурой, то не останавливающийся процесс человеческого творчества, вдохновляясь своими задачами, не лишается духовного воздействия спасительной благодати Духа Святого, как открыто было апостолу Петру о язычнике Корнилии, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему
(Деян 10:34–35). Так мыслили и древнехристианские апологеты и церковные гностики, как св. Климент Александрийский, видевшие в эллинской философии, наряду с ветхозаветным Законом, детоводительницу ко Христу, и церковные иконописцы, изображавшие в храмах образы Платона, Еврипида, а на Западе — Вергилия и сивилл с верой в их причастие к пророческому озарению от Духа Божия. Так же и мы находим не обязательно ошибочным пророческий подъем внецерковного человечества и его благодатные ощущения в наиболее чистые возвышенные минуты его творчества. Но конечно, это непрекращающееся в мире естественном, языческом, даже и после явления Христа и Церкви, промыслительное откровение и вездеприсутствие благодати Духа Святого не есть достаточная гарантия положительности внецерковного делания человечества. Ибо для моего православного сознания нет ярче и ощутимее величайшего библейского догмата о том, что мир во зле лежит
и что не облекшись во всеоружие Божие, не препоясав чресла истиной, без брони праведности, без щита веры, шлема спасения и меча духовного
(Еф 6:11–17), что дается только в полноте Церкви, «невозможно противостоять козням дьявольским». И я в своей статье, вслед за утверждением пророческой качественности в естественных усилиях человечества, сейчас же делаю оговорку о беззащитности их от всех раскаленных стрел лукавого
(Еф 6:16). Я говорю, что там, где может повеять «благодать», там же лукавый легко подменяет ее «лжеблагодатью». Умолчание об этом в «Окружном послании» есть сознательное сокрытие от доверчивого читателя всей полноты моей мысли, смею думать, правильной и церковной. Вот что я пишу: «Может быть, нет полной ошибки в заподозривании этого духа как лжеблагодати. Ибо истинный дух пророчества, подлинная благодать эсхатологического вдохновения в разлуке с благословением Церкви действительно беззащитны от приражения к ним духа лжи, духа антихриста, царствующего в антирелигиозной, отрицающей свой конец культуре. Опасность приражения лжи, от соседства с нею, будет устранена, когда поток творческого пророчества сольется с Церковью. Пока же человечество, изнемогая от соблазнов духа тьмы, то падая, то снова подымаясь, не зная даже ясно, кому и чему оно служит, эсхатологически стремится установить свою власть на земле… Последовательные ортодоксальные люди решаются утверждать, что все это великое стремление человеческого гения есть дело князя мира сего. Но мы не допускаем столь черного религиозного пессимизма и больше памятуем о радостном слове евангельском, что князь мира сего побежден… Правда, ослепленное сознание — не столько самих масс, сколько гордых и самомнительных идейных вождей — думает устроить царство свое, царство человеческое, без Бога и даже против Бога. Но дело Церкви бороться и прекратить этот грабеж ее собственного идеала и возвратить человечеству с печатью своего освящения его наследственное достояние». Это написано в 1916 г. После адского опыта большевизма я нашел бы слова посильнее и краски поярче. Но и тогда антихристова суть большевизма мною была предусмотрена и оговорена.
Вот разъяснение по трем пунктам, выдвинутым против меня «Окружным посланием». Мне кажется, что только какое-то страстное ослепление могло вычитать в моих строках то, чего в них нет.
В заключение мне хотелось бы исповедать перед Вами, Ваше Высокопреосвященство, как пред моим владыкой и отцом духовным, что по совести я чужд легкомысленной уверенности в какой-то безошибочности всех своих богословских мнений. Все их я готов вменить в уметы
пред голосом единоспасающей Матери моей — Церкви Православной, если бы они с нею разошлись, по ее праведному суду, чего я не вижу в настоящем случае. Я высоко ценю умственное и научное служение церкви и свободу, даруемую для этого в Православии, но абсолютная верность Церкви и вечное спасение для меня не идет с этими относительными ценностями ни в какое сравнение.
Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник
А. Карташев
19 июня 1927
* Объяснения А.В. Карташева и прот. Сергия Булгакова печатаются по: Церковный вестник Западно-Европейской епархии. № 5. 17 (30) ноября 1927 г. С.14—30.
Антон Карташев — профессор Православного Богословского института в Париже.