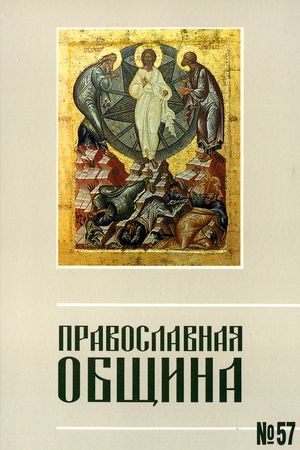Мы существуем не для наслаждения своими духовными победами
Интервью с прот. Сергием Гаккелем, членом Попечительского совета Московской высшей православно-христианской школы
— Отец Сергий, Вы служите в Сурожской епархии Русской православной церкви, которая находится в Англии и является неотъемлемой частью Русской церкви. Подавляющее большинство членов вашей епархии и прихода, где Вы служите, — англичане, жители Англии. Насколько они чувствуют, что они — члены именно Русской церкви?
— До некоторой степени они радуются тому, что они члены Русской православной церкви, потому что это какая-то экзотика, что-то особенное. И это даже опасно: не это должно их привлекать, не принадлежность к чему-то романтическому, или даже волшебному, как некоторые считают или считали. И тем более, как мне кажется, им не надо становиться какими-то эмигрантами, этакими эмигрантами gonoris causa, становясь членами РПЦ. Принадлежность сама по себе никак не обязывает их быть русскими по духу, по истории, по мышлению и т.д. Они должны оставаться англичанами, шотландцами, ирландцами, — теми, кто они есть и кем родились. Была, тем не менее, тенденция у некоторых изучать русский язык, особенно любить славянское богослужение, радоваться русской культуре, часто ездить в отпуск в Россию. Раньше это было невозможно, но тем более это привлекало потому, что люди становились членами гонимой церкви и даже «представителями» этой церкви в Великобритании. Это в каком-то смысле отвлекало от ежедневной жизни, от английской, вполне благородной, истории, от их положения в данном обществе. Так что тут был какой-то опасный элемент.
Я помню, было такое голосование в 60-х гг. Некоторые англичане беспокоились, что редко служат на английском языке, особенно в Лондоне, в лондонском соборе. Было такое голосование: какой язык самый стоящий, самый важный, самый красивый. Но подано это было просто — каким языком нам пользоваться? Русские, в том числе моя мать, как я помню, очень великодушно отнеслись к нуждам английского контингента и голосовали за английский язык. А англичане голосовали за славянский язык, что было очень странно. Но все это соответствовало той романтике, что мы, мол, принадлежим к чему-то редкому, изысканному, иностранному, и этим отличаемся от других. Теперь так думают меньше и, может быть, так совсем не думают, но можно такого подхода опасаться, так как раньше он был, и я не хочу, чтобы он являлся важным акцентом в нашей жизни, где на самом деле преобладает английский язык. И в нашем епархиальном уставеК сожалению, Устав Сурожской епархии до сих пор не утвержден Московской патриархией. даже сказано, что английский язык является официальным языком нашей епархии. Это не говорит о том, что мы отрезаны от России: каждый англичанин молится за патриарха Московского и всея Руси и за его представителя в нашей среде (в прежнее время мы говорили «об экзархе московском», а теперь это — наш правящий архиерей, поставленный Синодом Московского патриархата), у нас даже служит представитель Московского Патриархата, переехавший к нам, бывший правящий архиерей одной русской епархии — Уфимской. Так что мы, конечно, связаны. Но в языковом отношении уже наблюдается некоторое равенство языков, и даже можно считать, что английский является не только официальным, но и богослужебным языком. Почти в каждом приходе все более преобладает английский язык. А если служат по-славянски, то всегда именно по-славянски, а не по-русски.
— Где и как часто служат сейчас по-славянски в Сурожской епархии?
— Все зависит от священника и от паствы. Я бы, например, охотно служил по-славянски, если бы было достаточно прихожан, которые оправдывали бы такое служение. Но мы не можем являться славяноязычной церковью автоматически, независимо от того, кто бы к нам ни приходил. Вот когда присутствует определенный контингент гостей, или в данный день большинство прихожан русские, болгары или сербы, которые понимают по-славянски, тогда — пожалуйста. Но так как у меня, как и во многих других приходах, присутствуют главным образом англичане, для которых славянский язык — или романтика, или что-то лишнее (красивое, но лишнее), я предпочитаю пользоваться английским языком.
Теперь у нас ставится вопрос: каким английским языком мы пользуемся? В течение многих веков службы переводились или для знатоков, или для ученых, или, когда появились православные приходы в Англии, для богослужений — на староанглийский лад. Был такой, можно сказать, шекспировский церковный язык Англиканской церкви, который на самом деле очень красивый. Но именно потому, что он шекспировский, он, конечно, устарел. До недавнего прошлого Англиканская церковь еще пользовалась этим языком, и есть приходы, и даже видные приходы, где только и пользуются службами в переводе или в оформлении XVI века. Пример тому англиканский храм в Кингз колледж в Кембридже, где я недавно проповедовал. Это один из показательных храмов Англиканской церкви, службы в котором передаются по телевидению и по радио по всему миру на Рождество, на Пасху и т.д. Прекрасный хор, прекрасное здание, и язык богослужения тоже не изменился ни на йоту. Это и красиво, и печально. Но теперь это, скорее, исключение.
Но у нас, тем не менее, пользуются переводами XVIII века и, конечно, XIX и XX веков. Трудно от этого отвыкнуть. Я начинал служить именно на таком английском языке, и мне всегда кажется, что современный перевод звучит бледнее. Тем не менее, он нужен, и это признает не только русский православный мир Англии, но и греческий православный мир Англии. Я говорю о греческом мире сознательно, потому что в последние годы был издан прекрасный перевод на современный английский язык, где греческие переводчики пользуются не только прекрасным современным литературным языком, но и переводят все обращения к Богу на фамильярное «Ты», как мы по-русски. Но в современном английском нет никакого «ты», поэтому получилось обращение как бы во множественном числе («you»), хотя на самом деле это и есть «ты». Для многих православных это является соблазном, потому что мы привыкли к такому богослужебному «Ты» (Thou), которого в современном языке нет. Поэтому (я бы сказал: по слабости и по глупости) когда мы сами приступили к новому переводу (у нас есть комитет в епархии, возглавляемый епископом Василием, для которого английская речь — родная), мы решили, что переходим на современный язык, но с этим исключением, — наш народ пока не готов перейти к обращению к Богу на «You». Жалко, потому что, хотя мы и стремимся к естественному языку (и мне кажется, что надо именно естественно обращаться к Богу), отсутствие такого обращения лишает нашу речь элемента интимности, естественности. Но хорошо, что мы вообще приступили к пересмотру перевода, и сейчас у нас в епархии есть перевод, которым мы все и пользуемся.
— И Вы сейчас служите по этому переводу?
— И я служу по этому переводу. Но сожалею, что все-таки есть, я бы сказал, фальшивый литературный консервативный элемент. Есть и некоторые другие недостатки. Но в конце концов, это в наших руках, и в течение следующих десятилетий все это будет решено, может быть, иначе. Люди постепенно привыкают к звучанию нового современного перевода, и уже нет (кроме как в названном смысле) никакого принципиального различия между современным литературным английским языком и богослужебным языком.
— В русском языке — аналогичная проблема. Работая над последней редакцией своих переводов, о. Георгий Кочетков тоже очень долго думал (я был свидетелем) и все же оставил звательный падеж в обращениях: «Отче наш», «Царю Небесный» и т.д. Сейчас невозможно сделать так, чтобы «Отец наш» или «Царь Небесный» звучало естественно и привычно…
— Я думаю, это хорошо. Хотя, конечно, на этом основании нельзя оставить в тексте все те моменты, которые нуждаются в переводе. Но и отнимать у человека любимое и знакомое тоже печально и трудно. У нас, в переводе русской епархии, «Отче наш» осталось так, как это обычно звучит в Англиканской церкви со времени первых англиканских служб, т.е. с XVI века. В новом греческом переводе более дерзновенно: и «Отче наш», и «Символ веры» переведены, что труднее воспринимается, потому что люди привыкли именно к старым формулировкам, особенно в молитве «Отче наш», которая для многих является ежедневной молитвой. Может быть, без «Символа веры» можно обходиться ежедневно, а без «Отче наш» никто не может молиться. Так что мне кажется пастырски оправданным оставлять отдельные места в том виде, как они были.
— Для ваших прихожан и для членов вашей епархии Православие больше связано именно с Россией или собственно с Христианством? Какие у них господствуют ассоциации, почему они тянутся к Православию?
— Многие перешли не из неверия, а из какой-то другой веры, из другой церкви. Обычно это англикане, есть и католики, и протестанты. Поэтому иногда получается так, что они отказываются от своего прошлого, что жалко. Я всегда говорю такому человеку, который, скажем, приходит из Католичества: считайте это первоначальной стадией своей православной жизни, ни от чего не надо отказываться, но надо это сплетать со всем тем, что дается теперь. Прежний опыт — это богатство, от которого никак нельзя отказываться, надо использовать свое прошлое, оберегать, почитать его. Но не у всех это получается, и поэтому мало обращают внимание на экуменическое движение, на экуменические возможности в данной новой ситуации, когда они уже православные. В каком-то смысле они, может быть, даже не жалеют своих бывших собратьев в Англиканстве или в Католичестве, которым они могли бы помогать своим новым пониманием своего собственного прошлого. Но и наоборот, общение иногда выходит очень положительным и плодотворным, когда перешедший в Православие из Католичества имеет дело с католиками и т.д.
Например, есть один бывший член Католической церкви, выпустивший недавно перевод греческого текста литургии и других служб, целого молитвослова (мне даже кажется, что он бывший монах Католической церкви). Он — ученый, который отлично понимает историю, духовную жизнь и экклезиологию Католической церкви, поэтому он играет важную роль в межхристианских комитетах и диалогах. Я вместе с ним представляю Православную церковь в Совете церквей Великобритании. Он также представляет Православную церковь на заседаниях Англиканского синода, вернее, собора Англиканской церкви, который дважды в год собирается, чтобы обсудить текущие дела и принять нужные решения. Они по своей скромности и по своей щедрости приглашают и представителей других церквей, чтобы не только присутствовать, но даже и выступать от имени «соседней церкви». Он там и выступает, в частности, по проблемам перевода. Сейчас идут большие прения, как лучше перевести Молитву Господню на английский язык. Недавно мы издали его статью, где сопоставляются и обсуждаются все возможные варианты перевода, сравниваются с подлинным текстом (конечно, он ссылается всегда на греческий подлинник), как лучше истолковать то или другое не только прошение, но даже каждое словечко. Так что имея опыт католической жизни, он является очень важным собеседником и для католиков, и для англикан, и для других.
И другие так же творчески могут относиться к другим вероисповеданиям. Как, например, епископ Каллист (Уэр), известный ученый, который живет в Англии. Он сам перешел из Англиканства в Православие и не забывает о своем англиканском прошлом. Он очень трезво и мудро может принимать разные решения по отношению к Англиканству и поэтому является ценным членом англикано-православного комитета по богословскому диалогу, в котором он уже работает три десятилетия, с самого создания этого комитета. Все это, может, не отвечает на ваш вопрос, это скорее о том, кто переходит и как они относятся к своему прошлому.
— Когда люди приходят или переходят в Православие, это связано для них с каким-то большим открытием, с более полным видением именно Христианства, или это больше связано с увлечением Востоком, Россией и т.п.?
— Конечно, хотелось бы думать, что для многих это именно открытие полноты, завершение их христианского пути. И многие даже так говорят: «Я пришел домой, я нахожусь там, где в далеком прошлом находилась и моя церковь, которая откололась, отошла от Православия». По поводу Католичества это вполне законно, но и бывшие англикане часто так говорят: «Наконец, я понимаю, что у нас многое находилось в неразвитом, сокращенном, или задушенном виде». Так что да, для них Православие — это скорее обретение полноты, новой свободы и нового дерзновения. Но также это связано с неполноценностью того церковного быта и той церковной жизни, в которой они находились до сих пор.
Для многих это связано с реформами в церкви. Например, многие англикане перешли или начали думать о переходе в Православие из-за того, что было принято решение рукополагать женщин в священство. Для многих это был кризис. Конечно, мы с самого начала решили и говорили, что никто не может переходить в Православную церковь лишь из-за того, что у нас нет женщин среди священников. Это очень мелкий элемент во всей церковной жизни, и надо понимать всю полноту нашей экклезиологии, чтобы стремиться к Православию. Но надо сказать, что если даже это обстоятельство явилось начальным толчком для многих, то в конце концов оно привело к более полному пониманию христианской жизни и христианской экклезиологии, в том числе и православной вообще.
То же самое — по отношению к католикам. Например, многие из них были встревожены реформами II Ватиканского собора: отнимался у них привычный церковный язык, лишались они как будто того абсолютизма в области духовной жизни и церковного управления, который раньше преобладал и который многих (не всех, конечно, и слава Богу, что не всех, но многих) устраивал. Так что многие, кто хотел придерживаться полноценной христианской жизни западного обряда (как говорили бы католики) без особенного труда нашли свой путь, поняли, что в православной церкви можно идти по тем же стопам иначе, употребляя уже другой богослужебный язык. Ведь учение отцов, понимание таинств, отношение к иерархии — во многом созвучно, если не идентично. Хотя терминология иная и постулаты иные, но, тем не менее, принципы одни и те же. Однако это в каком-то смысле являлось для них протестом против реформ II Ватиканского собора.
Надо сказать, что II Ватиканский собор принимал многие решения в духе Православной церкви и с помощью православных мыслителей, которые присутствовали на соборе по приглашению папского престола, — и слава Богу. Но и после II Ватиканского собора, и даже из-за этого Ватиканского собора, тем не менее, переходили в Православие, потому что на соборе Православная церковь была показана с особой, новой, хорошей стороны. Вдруг и западные христиане поняли, насколько они ценят древнее церковное предание, от которого Православная церковь никогда не отказывалась и которое они, и в богослужебном смысле, а не только богословском, начали вновь применять и уважать из-за II Ватиканского собора. Так что этот Ватиканский собор не только дал возможность некоторым недовольным католикам перейти в Православие, но и тем, кто насытился Католичеством и понял нечто большее из-за своего проникновенного участия в католической жизни, дал и им возможность иначе понять и воспринять православную жизнь и поэтому примкнуть к Православной церкви.
Я говорю только о двух церквах. Хотя, может быть, большинство из наших новых православных переходит из этих церквей, но есть и протестанты, и квакеры. У нас есть один дьякон, который перешел в Православие из квакеров. И он тоже, как и католики, и англикане, чувствует, что ему не надо отказываться от своего прошлого. Важные квакерские принципы, даже богослужебные и духовные, которые, может быть, не только созвучны Православию, но еще и недостаточно созвучны реальным православным, можно применять в Православной церкви. Так что квакер приносит в Православие что-то ценное из своего прошлого и помогает нам лучше осуществлять принципы нашего же вероучения.
— Возвращаясь к разговору о богослужебном языке и о богослужении, скажите, насколько, на Ваш взгляд, православные англичане адекватно воспринимают наше богослужение и насколько они участвуют в нем?
— Это очень трудный вопрос, потому что относится к внутренней жизни каждого присутствующего на богослужении. До некоторой степени это связано с языком богослужения, понимают ли они его. К счастью, можно сказать, что большинство действительно понимает его. Также это связано и с тем, до какой степени церковь, т.е. данный приход, служит так, чтобы все было доступно, понятно всем присутствующим (конечно, я говорю о так называемых «тайных» молитвах).
Надо сказать, что наша русская епархия Московского патриархата очень осторожно пошла по этому пути. У нас никто не запрещает чтение «тайных» молитв на богослужении. Поэтому тем более жалко не пользоваться возможностью читать их вслух. Я безо всякого разрешения начал читать «тайные» молитвы, хотя бы на литургии, уже тридцать, может быть, сорок лет тому назад. И читал их вслух даже в присутствии высшего архиерея. Но он, хотя и считает, что это очень важный элемент, сам в своем соборе не пошел по этому пути, что как-то мешает и другим взяться за это дело. Все понимают, насколько это важно, многие даже, наверное, понимают, что это возможно, но не все идут по этому пути.
Как раз в греческой юрисдикции епископ Каллист, например, дает такой пример. Насколько я знаю, на его служениях «тайные» молитвы всегда читаются вслух. Но таких, скорее, меньшинство. Я не бывал на всех службах всех наших священников, но уверен, что есть те, кто регулярно, охотно и разумно, и внятно читает «тайные» молитвы вслух хотя бы на Евхаристии. Но это не решено соборно, о чем можно только сожалеть. Хотя в нашей свободной ситуации, т.е. свободной в том смысле, что есть такая готовность, возможность, жаль, что это не рекомендуется более определенно, и поэтому не развивается, хотя могло бы лучше развиваться. Так что в этом смысле мы немного ограничены. Но еще надо учесть, церкви у нас не такие уж большие. В них все читают, конечно, эти молитвы вслух, даже если и не громко, а в небольших храмах все слышно, если только кто-то стремится слушать «тайные» молитвы, несмотря на то, что одновременно идет какое-то церковное песнопение.
— Все ли здесь целиком зависит от священников? Миряне могут что-нибудь сделать и делают ли?
— Миряне могут оказать влияние своими замечаниями, своими рекомендациями. Они могут писать в церковной прессе. Я призываю к этому.
— И пишут?
— Нет. Такого движения нет. Свобода есть, но мало кто пользуется этой свободой положительно. Тут надо прибавить, что это тем более обидно, что в Англии, может быть, даже слишком много образованных членов Русской православной церкви. У нас очень мало простых людей, которые переходят в Православие, и мы часто об этом жалеем. Появился один священник с запада Англии (west country, как мы говорим), у которого очень роскошный местный акцент. И это большая радость, что человек из простой среды, без особого образования (кончил школу — и все) служит у нас. Обычно же у нас слишком образованные люди и подход к жизни культурный. А нужен бы более разнородный состав людей, чтобы обогатить нашу жизнь.
Жаль, что образованные люди не пользуются своими талантами, чтобы обсуждать все эти вопросы. А обсуждать может каждый. У нас есть епархиальное собрание, на котором представлен каждый приход и, сверх того, каждый член епархии может голосовать и за представителей епархии, которые работают отдельно от приходов (т.е. сами они — члены какого-то прихода, но, кроме того, могут быть и представителями самой епархии). Обычно собирается 40—50 человек. И повестка дня составляется по желанию всех участников, т.е. каждый может предложить какой-то пункт для обсуждения. Может быть, есть и моя вина, что я никогда не ставил этот вопрос открыто; на этом собрании можно было бы обсуждать, не обязательно решать, но хотя бы обсуждать этот вопрос.
Так что у нас есть свобода, у нас есть нужные люди, у нас есть возможность обсуждать эти вопросы, даже письменно. Мы издаем хороший епархиальный журнал, «Сурож», есть и другие журналы, в которых можно было бы обсуждать эти вопросы. Сам я редактор экуменического журнала «Соборность», в котором тоже можно было бы поместить статью по этому поводу. Но этого нет. Правда, лет 30 тому назад (может быть, и больше) владыка Антоний созвал группу интересных людей — ученых, священнослужителей, мирян, — заинтересованных в том, чтобы обсудить вопрос о возможных реформах в нашем богослужении, и предложил составить доклад о том, чем нам заниматься. Я составил доклад по этому поводу, еще один доклад представил второй священник. Но мы обсуждали только один доклад, мой же был забыт. А в своем докладе я как раз говорил о разных исторических переменах в нашем богослужебном порядке. Я предлагал разные возможные реформы, и одним из их элементов как раз был вопрос о «тайных» молитвах, чтобы они читались вслух. Я приводил слова императора Юстиниана, который бранил церковный народ за то, что молитвы читаются именно тайно (это было еще в VI веке или в начале VII века). Но почему-то этот доклад был забыт, и даже мною забыт. Я его никогда не публиковал. Была возможность пустить что-то в ход, но, опять же, все это кончилось. К сожалению, наши собрания редко повторялись и, в конце концов, завершились без особых плодов. Мы могли бы возобновить эти занятия, но не знаю, кто бы откликнулся. Можно сказать, что был хороший исторический момент, и мы его упустили.
— Вы говорите о таких возможностях, действительно, о такой свободе в церковных делах, которая нам здесь, в России, вообще говоря, и не снилась. И будь у нас такая свобода сейчас, еще неизвестно, что бы было. Иногда я думаю, что, может, и хорошо, что такой свободы сейчас нет: это заставляет нас постоянно ее искать и добиваться. Но почему эти возможности не используются в Англии? Может быть, это действительно не нужно, нет духовной потребности? Скажите, почему ситуация теперь именно такая?
— Я думаю, что духовная нужда есть. Хотя человек может не знать, что у него есть такая потребность, потому что не знает, что есть такие возможности. Я думаю, что многие, если была бы дана им возможность так служить, может быть, пошли бы дальше и требовали, чтобы это все развивалось. Но тут есть, может быть, не только русский православный подход, в этом есть что-то чисто английское: есть свобода действовать так или иначе, но каждый осторожно, на свой лад и своим темпом берется за эти возможности. Это говорит о спокойности английского быта. Каждый «воз» может быть постепенным, осторожным и поэтому более богатым, в конце концов. Потому что никого не толкают, каждому дают возможность в свою очередь пустить в ход то или другое движение, те или иные мысли. Так что в этом подходе есть даже что-то похвальное.
Католики, между прочем, часто жалуются, что хорошие, иногда прекрасные реформы II Ватиканского собора проводились без всякого уважения ранее установленного порядка, т.е. слишком авторитарно. Они теперь пришли к решению, что подход к христианской жизни должен быть менее авторитарным. Для этого каждый епископ должен осторожно относиться к своей пастве, должен содействовать созданию разных епархиальных комитетов. И при каждом приходе должен быть комитет мирян, который помогает священнику принимать различные решения. Тем не менее, авторитарность, господствовавшая в старом порядке Католической церкви, имела свое влияние в методах проведения этих реформ. И многие люди были ранены этим, например, первоначальным полным запретом служить по-латыни. Только теперь католики пришли к более осторожному решению: время от времени каждый священник, который получает на это разрешение, может служить сколько угодно или насколько это нужно и на латинском языке, пользуясь старым обрядом. Но на первом этапе проведения этой реформы ничего подобного не было.
Оказывается, нельзя спешить и с хорошими вещами. Может быть, надо дать возможность каждому священнослужителю, приходу, приходскому совету, всем прихожанам постепенно находить свой путь, чтобы более прочно взяться за реформу, если таковая будет.
— Отец Сергий, когда Вы говорили, что среди членов вашей епархии, перешедших в Православие из Англиканской или из Католической церкви, часто встречается проблема закрытости к экуменическому диалогу, хотя им и знаком опыт других церквей и они могли бы говорить изнутри и способствовать такому диалогу, я подумал, что мы тоже испытываем подобные трудности. Здесь, в России, мы тоже наблюдаем некоторые крайности. С одной стороны — это крайний изоляционизм, когда христиане других конфессий воспринимаются лишь как раскольники, отколовшиеся от Православной церкви. Об этом в свое время писала мать Мария (Скобцова). Эта идеология изоляционизма нам знакома еще по советскому времени, и теперь она открыто проявляется и в церкви, покуда в нее пришли те же зараженные идеологией люди, может быть, не совсем сознательно став христианами. С другой стороны, в попытке решить проблему исторических расколов быстро, сразу, есть стремление перешагнуть через все проблемы и, например, начать причащаться у православных и у католиков одновременно, не особо оглядываясь на то, как на это посмотрит остальная церковь. Есть, наверное, и другие крайности. Тем не менее, мы знаем, что Русская церковь довольно давно участвует в серьезном экуменическом диалоге, и она очень многого на этом пути достигла. Сейчас, слава Богу, государственные границы открыты, и мы имеем возможность общаться и с католиками, и с протестантами — хоть со всеми христианами. Каким образом следует вести себя, чтобы, с одной стороны, оставаться в рамках своей традиции, понимать все проблемы, которые здесь существуют — исторические, богословские и проч., а с другой, — чтобы быть открытым и к другим христианам, чтобы не бояться общения с ними?
— Мы говорим сейчас о российской ситуации?
— О российской.
— Я думаю, что наши неправославные христиане только и ожидают от нас, что мы будем проявлять себя вполне как православные, именно это ценно для них. Для диалога, для любых встреч ценно то, что мы в самом деле — представители подлинного Православия. Нам не приходится отказываться ни от чего или менять свои порядки для того, чтобы вступить с ними в настоящий диалог, — не обязательно богословский диалог на высоком уровне, но чтобы встретиться на простом уровне. А встречаться с ними мы можем и должны, потому что если мы представители Правды и Истины, если мы пережили присутствие Христа в нашей жизни, церковной и личной, как нам не делиться этим, как мы можем скрывать от них то, что у нас есть — дар Божий, который нам дается, ведь он посылается не только нам. Считать, что христиане других конфессий в каком-то смысле недостойны, что они за пределами всякого спасения, — это, конечно, не христианский подход, это не подход Самого Христа, Который, например, к язычнику сотнику обращался с полным доверием и уважением, как и к женщине сирофиникиянке. Мир Христов должен быть доступен всем. Если мы Его представители, то, конечно, мы не можем скрываться от других, таить дар для себя и только самим наслаждаться своим наследством, своим богатством. Дар Божий должен быть общим достоянием. Это — первый элемент, который должен быть в нашей жизни.
К тому же, как можем мы считать, что никакого Бога, никакого Креста у других христиан нет, что они откололись, и кончено дело? В этой связи я всегда припоминаю слова, которые приписываются часто осуждаемому митр. Сергию (Страгородскому), будущему патриарху Московскому и всея Руси, который, кажется в 30-х годах, говорил: «Мы отлично знаем, где находится Церковь Христова, но мы не знаем, где она не находится». Мы должны допустить, что она находится в сердцах и в церквах других людей. Разве Христос ограничен какими-то границами, порядками, каноническим правом? Поэтому Его можно искать и в чужих сердцах, в чужих юрисдикциях, в чужих традициях. Можно идти и дальше — в других религиях. Разве Христос хоть как-то не присутствует в Его родной религии — в иудаизме? В каком смысле Он отказался от иудаизма, будучи верным членом Своего народа и Своей религии при Своей земной жизни? И так же Его таинственное присутствие чувствуется, я уверен, в других религиях, которые мы меньше понимаем и меньше видим.
Это к слову о христианском экуменизме. Итак, если Господь там присутствует, может быть, есть и в чужих традициях люди и элементы, которые нам созвучны и ценны для нас и о которых мы, может быть, забыли? Скажем, может быть, в Католической церкви найдутся элементы православного предания, о которых мы по историческим, научным и т.п. причинам, по незнанию или отсутствию литературы забыли. Так что мы должны быть готовы к живому диалогу с представителями других вероисповеданий, к тому, что и у них может быть тоже скрыта какая-то правда, какая-то истина.
Например, часто я это говорю и о квакерах. Это сравнительно не древнее движение, имеющее свои основы в XVII веке. Квакеры отказались от всех других вероисповеданий, считая, что их порядки и правила не созвучны с простым, подлинным христианством. В поисках подлинной религии квакеры отказались от всяких церковных порядков: у них нет таинств, нет служб, нет священнослужителей, так как они считают, что Бог доходит до каждого человека, что каждый есть носитель Святого Духа, имеет особую ценность, и поэтому каждый, крещеный или некрещеный (у них нет никакого обряда крещения), имеет особое достоинство как творение Божие. Был у нас один монах, старец, отец Лев Жилле, который жил в их среде два года, занимался научным трудом. О. Лев любил и часто посещал их молчаливые богослужения (они особенно ценят молчание, как и наши исихасты ценили его), любил их быт, любил их честность и трезвость, и миролюбие (они пацифисты). Он даже говорил о себе: я квакер восточного обряда, — до такой степени он их ценил. Но не надо ценить только их, и он не только их ценил. И я не только их ценю, хотя знаю, что можно находить Божью правду и в их среде, и с такими результатами, что они нас самих будут вдохновлять и обучать чему-то очень красивому.
Вот это — замечательный плюс в экуменической жизни, где главное — это, может быть, не столько находить, сколько даровать, даровать все богатство православной жизни, которое у нас имеется. Но тем не менее, нужно ожидать таких же откровений и от чужих, иногда в общей молитве, не переступая никаких священных порогов. У нас в Англии никто из православных не причащается у католиков. Католикам же позволено причащаться у нас. В свое время даже и Священным синодом РПЦ это было позволено. Тем не менее, насколько я знаю, католики у нас не причащаются. Но может иметь место общение другого рода, не только когда мы занимаемся взаимной благотворительной деятельностью или обсуждением общих вопросов богослужебного или канонического характера и т.д. А просто, скажем, в молчаливом взаимном признании нашего общего достоинства. Это есть выражение христианской любви. Отказываться же от такой любви, считать, что католиков надо как-то наказывать, обучать, или как-то с презрением относиться к их прошлому и даже к их настоящему — это не плодотворно, но, кроме того, и не по-христиански, потому что в этом нет любви. А именно любовь должна определять наше отношение ко всем.
Многие экстремисты считают, что за пределами канонической церкви нет спасения. Но если за пределами такой церкви нет спасения, тогда и надо спасать тех, которые находятся за пределами церкви, спасать их от гибели, ведь тогда мы тем более несем за них ответственность. Тогда мы должны, в конце концов, отвечать за погибших, за их потерянность, за их блуждание.
Есть одно обстоятельство, которое может препятствовать экуменическим отношениям в российской среде: это давление со стороны государства и партии, чтобы Русская церковь занималась экуменизмом, особенно проявившееся начиная с 1961 г., когда РПЦ официально вступила во Всемирный совет церквей (ВСЦ). После войны ими же это было запрещено. Считалось, что это какая-то западная, даже империалистическая затея, и до некоторой степени это было так, ведь американцы считали, что это важное проявление западного мира. Вот и многие, кто участвовал тогда в экуменическом движении из западного мира, действительно примкнули к нему (это был тогда вообще в большой степени протестантский организм, тем не менее, я бы сказал, достойный, но ограниченный). В 1948 году Русская церковь отказалась от всякого участия в этом движении, но это было сталинское решение. А в 1961 году, уже после Сталина, было принято решение, что Русская церковь должна участвовать в этом движении. (Многие православные церкви тогда уже принимали в нем участие. Здесь стоит вспомнить отца Георгия Флоровского, который с момента основания ВСЦ играл в нем важную и красивую роль).
Да, в 1961 году по разным нуждам КГБ и правительства Русской церкви разрешили участвовать в ВСЦ. Им этим можно было оправдать свое утверждение о наличии свободы религии в Советском Союзе, ведь в этом движении принимали участие наши представители хорошего характера и хорошего богословского уровня и как будто свободно делали это. А вот теперь, после распада Советского Союза, многие оплакивают это решение, говоря, что оно было принято ошибочно под давлением партии и т.д., и поэтому, мол, нужно отказаться от экуменического движения вообще. Хотя те, кто был даже принужден вступить в движение, искренне, творчески принимали участие в нем. Конечно, никто не забудет участие в экуменическом движении митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, который, в свою очередь, стал одним из президентов Всемирного совета церквей (хотя я, например, как раз хотел помешать этому его стремлению стать президентом).
Были и другие прекрасные люди, и они творчески и по-христиански принимали участие в этом движении, хотя как будто бы и не для того они были туда посланы. Из-за того, что была эта государственная (или партийная) роль в их работе, не надо считать, что все это должно быть теперь забыто, что надо отказаться от самой этой работы. Тем более, помня, что и многие другие православные церкви, тоже имеющие свое достоинство, свои глубокие корни и нужды, свой глубокий опыт, до сих пор всерьез участвуют в экуменическом движении. Есть и те (и Константинопольский престол первый из них), которые никогда не были под давлением никакой коммунистической власти и которые участвуют в нем охотно, добросовестно, бескорыстно и даже жертвенно. Тут также можно упомянуть Американскую православную церковь, которая свободна и творчески занимается вопросами экуменического движения.
— Но ведь есть еще и другая крайность. На Западе, или даже здесь, в России, православные часто видят хорошее, доброе отношение к себе, скажем, от католиков. Католики, конечно, их не гонят, на них не кричат, не шумят, не ругают их за то, что они православные. Внешне нет никаких проблем. И православные спокойно идут на диалог, что само по себе не беда, и даже слава Богу, что идут. Но некоторые из них при этом с ними причащаются, а католические священники их причащают. И часто никто не видит в этом проблемы. Что Вы на это скажете? Можно ли причащаться в таких ситуациях или нельзя? И почему?
— Это очень трудный и тонкий вопрос. И, конечно, он ставится, когда человек действительно признает всю полноту Католической церкви, признает то православное, что в ней есть, и пользуется, в обратном смысле, упомянутым позволением Священного синода РПЦ. Если католикам дается право причащаться у православных (в России хотя бы тогда это было), почему мы можем лишаться этого права, будучи у католиков? То есть если они достойны, когда подходят к нам причащаться, тогда и они сами все-таки представители той церкви, к которой и мы можем приступать.
Католики на II Ватиканском соборе, насколько я помню, получили право причащаться у православных, хотя разрешения у православных не получили. Но русский cинод, как я сказал, принял такое решение и дал им разрешение.
В конце концов, этот вопрос до сих пор не решен церковной властью, и может быть, для того, чтобы высказываться по этому поводу, этого решения надо подождать. А то получится такое взаимное евхаристическое общение без полного общения двух наших церквей. А мы всегда говорим, что это полное общение на всех догматических и канонических основах должно предшествовать общему причащению, к которому все стремятся.
Вот, например, папа приезжает к патриарху или патриарх приезжает к папе…
— Или не приезжает.
— …или не приезжает. Но, скажем, патриарх Вселенский приезжает к папе Римскому, — часто есть обмен чаш. Нет совместного причащения, но один преподносит в дар другому чашу — в надежде, что она в один прекрасный день станет для нас общей чашей. Так что у нас есть такое упование, есть такая предвидимая возможность. Но пока этот день еще не наступил, надо считать, и приходится считать, что для нас всех, для простых членов церкви (той или иной) этот момент еще не наступил. Нельзя его и предварять. И к тому же, я бы сказал, нельзя его ускорить таким причащением в другой церкви, в чужой (покамест чужой) церкви. И тут — самый тонкий момент. Но некоторые считают, что таким общим причащением можно его ускорить. Если один уже так причащается, то якобы это уже какой-то мост, который переходит в другую церковь и который дает возможность и остальным переходить по этому мосту. Хотя он еле-еле держится, он все-таки пересекает какую-то пропасть, он есть. Так поступал, конечно, Владимир Соловьев, когда он приобщался в Католической церкви, оставаясь, как он считал, членом вселенской Церкви, только доказывая этим, что Западная церковь не лишилась вселенского значения, что, наоборот, он становится более полноценным членом Церкви вселенской. Так, может быть, поступают и иные люди, сознательно строя этот мост и уже переходя через него. Но это как с рождественскими подарками — они готовятся очень долго, осторожно, но скрываются до праздничного дня. Если ребенок уже открывает свой подарок накануне или за несколько дней до праздника, то что-то теряется в этом праздничном моменте. Может быть, и такое общее причастие еще слишком рано. Я вполне понимаю и принимаю достоинство тех людей, которые так причащаются, но для Тела Христова, а в конце концов мы говорим о Теле Христовом, это опережает желанный и ожидаемый момент, когда это станет нормой, большой наградой и счастьем для всех. Я надеюсь, что этот день отлагается ненадолго.
Тут есть и другой момент. Если человек находится, как было сказано и Священным синодом, когда им католикам было дано право приобщаться у православных, в уединении, в опасном положении, в духовной нужде, как можно такого человека лишать приобщения св. Тайн? Скажем, русский человек, паломник, умирает в Риме. Нет никакого православного, не говоря уже о русском православном священнике, которого можно было бы найти в такой момент. Разве нельзя ему приобщиться у капеллана данной больницы в последний момент его жизни? Кто может его лишить этого? Имея в виду такие крайности (ну, и менее резко определяемые, — скажем, человек, в одиночестве странствуя и долго находясь в уединении от православных священнослужителей, чувствует крайнюю нужду в приобщении св. Тайн), по пастырским соображениям, мне кажется, это дозволительно, желательно и даже полезно. Это не предательство, не какой-то отход от православного предания и от православной жизни. И опять-таки, как может Христос как бы Сам сказать: не дотрагивайтесь до Меня, не желайте даже подходить ко Мне, Я в этот момент недоступен, потому что тот человек не той юрисдикции, не той формы веры тот, кто в данный момент вас приобщает.
— О. Сергий, я хотел бы, чтобы ответы на следующие один или два вопроса в основном были обращены к нашему Братству. Большинство из нас (наверное, в РПЦ сейчас большинство таких людей) пришли в Церковь в 90-е годы. Таким образом, духовный возраст людей относительно невелик. Так уж случилось (мы не выбирали), что мы были вынуждены сразу же, придя в Церковь, столкнуться с церковными проблемами и как-то внутренне для себя их решать. И, конечно, это является серьезным искушением, когда видишь, что в церкви часто происходит то же, что и в мире: та же ложь, то же лицемерие. Иногда это воспринимается даже более остро, чем в мире. Как, по-Вашему, можно избежать этих искушений или преодолеть их, и при этом остаться в Церкви, остаться верным Богу, ближним и, кроме того, продолжать свою церковную и духовную деятельность?
— Это очень трудный вопрос, особенно для вас, в вашем трудном положении. Тут надо прибегать к разным элементам в собственном характере и в церковной жизни. Нужно развивать, насколько возможно, то смирение, которое является важным элементом в жизни любого христианина, что и есть особое выражение любви, уважение к ближнему, уважение и к начальству — тут должна быть тоже некоторая щедрость и даже любовь. Я иначе скажу: щедрость и любовь по отношению к самому начальству, которое не всегда в силах делать то, что даже ему, начальству, кажется справедливым или творческим, потому что есть разные причины политического, церковно-политического или социально-политического характера, которые препятствуют иерархии, начальству действовать по-честному, по-христиански в полном смысле слова. Значит, можно их (начальников, иерархов) жалеть. И если жалеть, тогда и принимать с терпением, со смирением то, что от них исходит. Но, конечно, надо и развивать в себе (и в конце концов, будем надеяться, во всей церковной среде) новое, т.е. забытое традиционное понимание того, что значит иерарх, что значит епископское, священническое или дьяконское служение в Православной церкви.
Вы сказали, что иногда находишь, что нет особой разницы между тем, что происходит в церковной и мирской среде. Может быть, есть одно объяснение этому: многие наши начальники (я говорю «наши» в смысле начальники в РПЦ) получили свое воспитание и даже свое назначение при советской власти, они имели особое одобрение от советской власти, потому что они были созвучны советской власти. Иногда это и сейчас в них действует, потому что человек, который воспитывался в те времена, подсознательно воспринимал некоторые начала, особенно начальнические навыки, привычки из советской среды, и теперь справляется со своими подчиненными так, как было положено тогда, как это было обычно. Об этом можно сожалеть, но об этом также можно молиться, чтобы это было постепенно изжито в РПЦ. В конце концов, время течет, и этого, может быть, в дальнейшем не будет, но надо всегда и самим стараться, чтобы этого не было. Если каким-то образом можно противодействовать тому, чтобы старое поколение архиереев назначало в этом смысле только себе подобных, это, конечно, нужно делать.
Но и к этому можно смиренно относиться, понимая, что есть исторические причины для некоторых теперешних проявлений такой властности или авторитарности в православной среде. Ведь надо помнить, что и вообще в православном мире есть ложные оправдания этой авторитарности. Есть и в совершенно свободных странах архиереи, которые принимают и применяют архиерейскую власть как будто они какие-то цари, как будто они похожи на светскую власть в том смысле, что имеют над другими абсолютные права. Например, в свободной по своей истории Греции, где я недавно был, есть такие архиереи, которые поступают очень властно, очень авторитарно, не советуясь со своим народом, и даже, в каком-то смысле, презирая его.
Презрение к церковному народу — это ужасно опасная тенденция в жизни любого архиерея, не только постсоветского. Я никогда не был и никогда не буду архиереем, но могу сочувствовать вам в этом. На днях я был на одном собрании, где запрещенный греческий архимандрит (это было не в Греции, а в Англии) жаловался на то, что у нас все архиереи, говорил он, — палачи. Это, конечно, преувеличенно, и сам он был человек обиженный, но все-таки он это говорил о греках, как говорят это и о русских. Это не чисто национальный и не чисто политический вопрос. Речь идет об отношении к архиерейской власти, которое воспитывается и которое отражено даже в слове, с которым мы обращаемся к епископу: «владыка». Это слово очень опасное, которое неправильно передает ту кротость и любовь, которая могла бы быть и должна была бы быть у каждого архиерея, который, как это определил в давние времена, кажется, св. Григорий Великий, может быть, и поэтому должен быть, служителем служителей Бога. Пусть же это смиренное служение каждого иерарха будет тем, что мы ожидаем от него, что мы помогаем выращивать в церковной среде нашими ожиданиями, упованиями и молитвами. И пусть будет так, несмотря на все соблазны.
Конечно, властолюбивый человек, который становится епископом (даже архимандритом), может попасть в это искушение очень легко и очень надолго. И в конце концов, никто в его среде не станет его упрекать, поправлять или уличать, если он таков, потому что считается, что так полагается, что это и есть церковный порядок, что это традиция в церковной среде. В конце концов, каждый может стать Никоном или даже папой Римским, в старом понятии этого слова, т.е. абсолютным, беспрекословным начальником в данной среде, что ужасно опасно и антицерковно, потому что против всех любовных начал, против всякой любви. Это именно антицерковно, потому что антисоборно. Мы же привыкли к тому, что определяющую и важнейшую роль в Церкви должно играть соборное начало.
— Спасибо большое, отец Сергий. Но все-таки не одно ведь священноначалие грешит в церкви. Часто мы друг против друга грешим, более личностно, чем это происходит во взаимоотношениях с церковной иерархией. Мы призваны жить вместе, но все мы не без греха, и это нужно уметь преодолевать. Каким образом здесь сохранять верность и Богу и друг другу? Каким образом продолжать свое служение в Церкви? Как в этих трудных церковных условиях жить?
— Да, в протестантских кругах это делалось бы просто. Можно привести такой пример, как германская исповедническая церковь. Она откололась от Лютеранской церкви в гитлеровские времена и просто создала особую ячейку, можно сказать, свою церковь. Теперь, глядя в прошлое, мы видим, что это была подлинная церковь, хотя формально существовала тогда в расколе. А официальная церковь потеряла всякий вес и даже справедливо осуждалась после всего того, что произошло. Но это просто при протестантском понимании церковной организации. Я вам не советую, и вы сами себе не советуйте такой раскольничий путь, хотя, конечно, и в православной среде бывают такие явления. В конце концов, Зарубежный синод является таким явлением. Они считают, что законным путем ушли из РПЦ, но ведь это было вопреки воле и желанию иерархии в РПЦ. Тем не менее бывают такие решения. Конечно, тогда появляется новый соблазн: отколовшиеся считают себя до такой степени справедливыми, верными и красивыми, что в этой среде торжествует особый род гордыни, что тоже очень плохо и опасно для церковной чистоты, даже когда кажется, что они откололись по совершенно справедливым и красивым причинам. Так что отколоться — это не решение.
Тут надо как-то бороться с самими собой, чтобы не идти по пути самоутверждения. Но также важно, чтобы вы не теряли своего достоинства, чтобы не отказывались от справедливых принципов, чтобы не побеждала чуждая или даже злая сила, которая направлена против вас. А ее побеждать можно любовью, вниманием и признанием достоинства тех, кто грешит против нас. Мы просим ежедневно, чтобы наши долги были оставлены, как и мы оставляем нашим должникам. Это совсем нелегко в ежедневном нашем поведении, но и, может быть, тем более — в делах общецерковных, юридических и законных, когда дело касается канонического права и когда как будто торжествует какая-то сомнительная сила. Не знаю, как ее определить. Но в конце концов это злая сила, т.е. неоправданная, несправедливая и противозаконная сила. Надо знать, что в конце концов всякое зло — это иллюзия. И все-таки ничто не может победить подлинную Церковь, Церковь Креста, Церковь Христа. Будет, может быть, победа, как и крестная «победа», этого мира, земного мира, но, в конце концов, восторжествует Крест, крестная победа, победа над смертью. Он — символ, или знак того, что то же самое может произойти в любой среде, когда и нас теперь побеждают темные и просто земные силы своей административной, денежной, имущественной мощью и т.д. Может произойти крестная победа!
Тут совершенно по новому ставится вопрос о противостоянии злу: не дипломатией, не законным, т.е. на основе канонического или даже мирского права, противостоянием, а таинственной (если ее можно так назвать) борьбой, таинственным противостоянием на основании моральной и духовной чистоты, которая никак не уязвима, даже при такой могучей, преобладающей и побеждающей силе, которая может быть у той или иной церковной или мирской организации. Но победа достигается путем страданий и испытаний, и даже через сомнение, которое возникает у человека, который борется со злом, но всегда с надеждой, что правда Христова победит, о чем свидетельствует и само наше крестное знамение. Христианство здесь испытывается как путь, и путь к победе. Даже если мы эту победу не испытаем в наши времена, есть наше потомство, которое, в конце концов, победит или увидит, что побеждает праведная сила. Здесь важно помнить аскетическое правило: мы не должны сами измерять нашу праведность, нашу правду, наши деяния. Насколько я помню, есть такие слова у Феофана Затворника, что нельзя мерить себя. Я думаю, что в этом он основывался на более древних высказываниях. Если мы слишком присматриваемся и любуемся своим подвигом, мы можем заболеть духовным нарциссизмом. Но принимать то, что происходит, и творчески выпрямлять свой путь вопреки злым обстоятельствам — это в наших возможностях. Хотя это и может привести к духовной радости, ничего такого не гарантируется, тем более, что мы не для того существуем, чтобы наслаждаться своими духовными победами.
Осень 1999
.