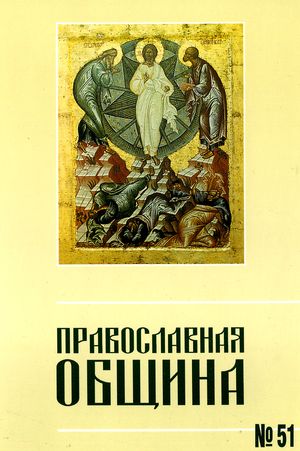Духовный опыт русской эмиграции
Религиозный опыт русской эмиграции: я постараюсь его как-то охарактеризовать, вставив в историческую рамку. Он был, во-первых, интенсивным: эмиграция, выкинутая из своей страны, пережила повышение религиозного чувства после того исторического провала, той беды, которая стряслась с Россией. «Гром не грянет — мужик не перекрестится», — говорилось в прошлом. То же самое было и с эмиграцией. На несчастья эмиграция не роптала, потому что знала, что оставшиеся в России переживают худшие трудности. Но специфические трудности эмиграции — отсутствие почвы, отсутствие земли — могли быть восполнены именно тем, что эмиграции оставалось открытым небо. И естественно, к небу значительная часть этой эмиграции и обратилась.
Но опыт эмиграции не был, как вы легко можете себе представить, ни безмятежным, ни безраздельно славным, ни сплошь творческим и т.д. Оказавшись за бортом своей страны и за бортом истории, Русская церковь в эмиграции, помимо тех организационных сложностей, которые выпали на ее долю, довольно быстро разделилась на два неоднородных лагеря. То, что есть различные мнения, различные установки — это закономерно. И церковь должна допускать плюрализм. Он всегда у нее был и будет. Должна быть довольно широкая палитра не только мнений, но и практик. Плохо в эмиграции было то, что одна часть другую не понимала. Но это еще полбеды. Совсем плохо, когда одна часть претендует на свою исключительность и тем самым другую старается подавить или опорочить.
Я бы эти две тенденции охарактеризовал следующим образом. Первую тенденцию я бы символически назвал синдромом Лотовой жены. Это «взгляд назад». А всякий взгляд назад, как мы это видим по библейскому сказанию, ведет к окаменению. Это и случилось с одной частью эмиграции. Среди нее были выдающиеся люди, были, несомненно, искренние христиане, но попав в эмиграцию, они стали смотреть не вперед, а назад, пережив изгнанничество как ностальгию по прошлому. Это течение возглавил уже достаточно престарелый, в свое время выдающийся русский иерарх — митрополит Антоний (Храповицкий). Это течение все еще продолжало мыслить церковь только в союзе с рухнувшим государством, то есть мечтало о восстановлении государства в его прежних формах, мечтало, что монархия продлится и останется непременным условием существования церкви, в союзе не просто с монархическим строем — большая часть эмиграции была не против вообще монархии, — но именно с династией Романовых.
В этом «взгляде назад» был отказ от суда истории как раз над той же монархией, во всяком случае, над этой династией, от суда над в свое время слишком большим подчинением церкви и церковных органов государству. Но, может быть, в еще большей степени это был отказ вообще от самой истории. История же неумолимо идет, у нее свои непреложные законы.
Принять крушение государства, крушение династии, которая только что отпраздновала свое 300-летие, было настолько психологически трудно, что в Софии еще в 1926 г. архиепископ Серафим (Соболев), благочестивый, хотя и очень узкий, продолжал служить молебны о как бы живом государе. Видите, какой образный отказ от непреложного факта гибели царской семьи, какая невозможность отказаться от факта, что нет государя! И это — к ужасу многих людей, в частности такого выдающегося богослова, как Николай Глубоковский. Неприятие истории может вылиться в мифическое восстановление ушедшего времени или в полное уже отрицание исторического времени, в чувство, что пришел конец всего, что с крушением династии и православного государства всемирная история заканчивается.
Это апокалиптическое настроение разделял и епископ Феофан (Быстров), тоже в своем роде выдающийся человек, крупный библеист, который не мог себе простить, что когда-то ввел Распутина в царский дом. Он потом уехал на покой из Сербии во Францию и жил вполне аскетической жизнью в пещере. Но вот ему казалось, что история кончена. А история не кончается.
Нам не дано знать сроков истории. Это вообще некоторая опасная тенденция русского духа, которую мы можем назвать апокалиптическим испугом: она правильна в том смысле, что выражает напряженное ожидание Царства Небесного, но это напряженное ожидание Царства Небесного не должно быть локализировано и приурочено к определенному времени. Господь грядет, но мы не знаем, когда Он придет, когда будет Его Второе Пришествие. Мы этого не знаем, нам Богом дана история, и по отношению к истории мы должны действовать. Вы знаете, какую роковую роль апокалиптика сыграла в разделении XVII столетия, когда старообрядцам тоже показалось, что история кончилась и нужно уходить в леса, тем более, что их и церковь, и государство притесняли. Они проклинали государство в те года, им казалось — все кончено: Третий Рим, то есть Москва, Московское государство, пал, а «четвертому не бывать». Это и определило раскол. Кстати, старообрядцам все равно пришлось вернуться в историю: как известно, они сыграли довольно решающую роль в зарождении и развитии русского капитализма до революции. Это в каком-то смысле парадоксально, но это как раз показывает, насколько тщетно отказываться от истории. Наоборот, с историей нужно всегда считаться, вернее, в историю нужно быть вовлеченным и ее направлять.
«Взгляд назад» повлек за собой в эмиграции остановку на мертвой точке, обусловив почти полное отсутствие религиозного творчества. Он был вполне совместим с благочестием, с текущим окормлением паствы, но тем не менее, неизбежно влек за собой усыхание религиозного творчества, некий, я бы сказал, столбняк. Потому я его и называю «синдром Лотовой жены». Он сопровождался сужением понятия самой Церкви только до России, к тому же до России прошлого. Церковь воспринималась не как благая весть о спасении мира, а как последний уголок отечества. Никакой перспективы на будущее, никакого взгляда вперед!Поэтому так трудно теперешней Карловацкой юрисдикции принять новый поворот истории, вернувший церкви в России свободу.- Прим.ред. Сама по себе эта точка зрения могла бы существовать, но она сопровождалась горделивой уверенностью, что только в этой части церкви сохранилась верность православию. Но, как неоднократно повторял Николай Бердяев, «эмиграция не изгнание, а посланничество, а точнее, изгнание для посланничества». Это были слова, которые замечательный московский старец о. Алексей Мечев на Маросейке сказал изгнанному из России свободному философу. Ему ужасно не хотелось уезжать, а о. Алексей ему сказал: «Езжайте смело. Вы посланы, чтобы Запад услышал Ваше слово».
И был второй опыт русской эмиграции, в другой части церкви, которая восприняла изгнание именно как посланничество Богом, как зов, как обретение небывалой свободы. Я его называю, противопоставляя синдрому Лотовой жены, верностью Авраамовскому призванию, когда по зову Бога уходишь, не зная куда. Уходишь по велению Бога.
Всё это нужно еще социологически и географически видеть. Второй опыт касался очень небольшого числа людей, малого стада. Русская эмиграция и в общей численности своей насчитывала около миллиона человек, распыленных по всем континентам (в основном, конечно, они жили в Европе, но и в Азии тоже). Но этот миллион быстро таял, потому что выехали в основном люди, пережившие 7 лет войны (4 года великой войны и 3 года гражданской), пережившие крушение своей страны, своих идеалов. Смертность в эмиграции была большая, рождаемость малая, семей не так много. Во Франции, где сосредоточилась русская эмиграция в количестве 200 тысяч человек, к началу второй мировой войны, к 40-м годам оставалось уже не больше 70 тысяч русских эмигрантов. Так что в социологическом смысле это не было большим явлением.
Обо всем этом очень хорошо писала мать Мария (Скобцова) в 1936 году: «Мы имеем небольшой осколок церкви, оказавшийся в положении, в котором церковь никогда в мире не бывала». Она почувствовала исключительность положения церкви в эмиграции, то есть в условиях полной свободы. Во-первых, от гонений. В России тогда шли лютые гонения, которые позволяли святость, мученичество, но не позволяли творчество. Наиболее творческие люди почти все погибли в ГУЛаге. Эмиграция же оказалась на свободе от гонений, от государственных подачек и, я скажу даже шире, дополняя чуть-чуть мать Марию, вообще от всякого государства. Отличало эмиграцию то, что она была в лучшем случае терпима, но не признана. В эмиграции вопрос о соотношении церкви и государства вообще не ставился. Так что церковь была свободна от государственной опеки, от государственного гнета, от государственных требований, тем более, что она была разбросана по территориям многочисленных государств. «Не связанная органически со странами, ее приютившими, предоставленная сама себе, не интересующая почти нигде никакую власть, церковь в эмиграции вольна жить руководствуясь лишь ей самой присущими законами. В этом величайший (это небольшая группа все-таки! — Н.С.) всемирно-исторический и даже провиденциальный смысл нашего, на первый взгляд, невыносимого и ненормального положения. С точки зрения духовной жизни это положение — может быть, единственно нормальное за всё время существования церковной истории. За всё время существования церковной истории мы свободны. И это значит, что за все наши неудачи, даже просто за нашу инертность мы отвечаем сами. Мы не можем обвинять власть или окружающую среду, потому что они не гонят нас, не отравляют нас своим покровительством. Если что-либо у нас плохо, то это от того, что мы сами плохи». Эти слова матери Марии отображают действительное положение той части церкви, которая старалась понять, чего от нее ждет Бог, что она может сделать в том новом положении, в которое Бог ее поставил.
И вот эти две разнородные части одной церкви разделились. Это разделение продолжается и до сих пор, хотя уже не имеет былой остроты. Та церковь, которая почувствовала свое особое призвание, свою свободу, возможность пролагать новые пути для церковного сознания, для духовного творчества, была запрещена той церковью, которая осталась верной государственно-синодальному периоду и которая стала ее — насколько могла — преследовать. Но это разделение в итоге оказалось благотворным. То есть в данной особой конъюнктуре, потому что церковь, которая сосредоточилась вокруг одного из самых выдающихся православных иерархов ХХ столетия, митрополита Евлогия, эта церковь могла уже не бороться со своими оппонентами и врагами, что всегда малоплодотворно, и, наоборот, целиком отвечать за самое себя и отдаться творчеству. И вот, действительно, с того момента, как этот внутренний раскол определился в 1925–26 годах, в эмиграции (в основном во Франции, куда в то время стянулись все основные ее силы) были явлены просто удивительные личные свидетельства.
Мать Мария — это одно из таких очень ярких личных свидетельств. За какие-то 30–40 лет (потом это продолжалось потомками и учениками несколько лет уже в другой форме) вот этой численно небольшой церковью был выстроен действительно нерукотворный православный храм православной мысли и православного делания. И не только мысли, но и ярких личных свидетельств, доходящих до вольно избранного мученичества и реального обновления языка Церкви. Но не в том простом богослужебном смысле, что нужно как можно более доходчивей сделать богослужение, литургию, — нет, в эмиграции, скорее, даже остались здесь сравнительно консервативны (хотя обсуждали все эти вопросы), поскольку, во-первых, наш вопрос был связан не столько с миссионерством по отношению к стаду, ушедшему из церкви, а во-вторых, потому что вопрос языка у нас ставился не между церковнославянским и русским. Вообще я стою скорее за сохранение церковнославянского языка, но за его медленную реформу и за его приближение к русскому (и так это и происходит) в целом ряде богослужебных текстов. В то же время я целиком стою за употребление русского языка во всех чтениях и, в частности, в чтениях Священного писания как Ветхого, так и Нового Завета. Немножко сложнее с псалмами, потому что псалмы практически все вошли в богослужебные тексты. В эмиграции миссионерский вопрос ставился по отношению к тем странам, которые нас приютили и в которых постепенно вырастали уже новые поколения. Поэтому вопрос ставился уже между церковнославянским и местными языками, поскольку все знали, что в церкви нет сакрального языка. (Хотя в Католической церкви в то время еще всё шло по-латыни. Это вообще удивительно и странно — сколько веков Католическая церковь служила на вышедшем из употребления языке, и она, между прочим, до сих пор платит за то, что она так долго сохраняла мертвый язык в богослужении!)
Вот я говорил об обновлении языка Церкви, об обновлении вообще творческого подхода и в области мысли, и в области, конечно, богослужения, и наконец, даже в самой трудной области, а именно, в области церковного искусства. И вот дух свободы действительно дышал. Он дышал и был ощутим всеми как веяние Святого Духа. Это проявлялось даже на самом конкретном уровне. Скажем, одним из институтов, который на протяжении истории часто был одним из главных двигателей обновления церкви — как в IV веке, когда окончились времена мученичества, как и в XIV веке, в связи в Афоном, как и у нас в России в XIX веке — было монашество. В эмиграции же его не могло быть даже чисто социологически! То есть, конечно, было несколько монастырей, но это была уже прерванная традиция, ведь это все-таки требует целой школы. Но зато в эмиграции родился новый институт, который носил пророческий характер, вообще свойственный началу ХХ века, и который сейчас уже несколько ослабел, — это так называемое Русское студенческое христианское движение. Это было движение мирян, основанное, в основном, на молодом поколении, но не только, для переосмысления, для вживания в церковный опыт и для того, чтобы церковный опыт не был каким-то закругленным и самодовлеющим, а чтобы он распространялся на все области жизни. О. Сергий Булгаков выдвинул тогда термин, потом подхваченный о. Василием Зеньковским, термин, может быть, даже не совсем удачный, потому что он может быть по-разному понят — «оцерковление» жизни, что просто должно было означать, что то вдохновение, те дары, которые мы получаем в Церкви, мы не должны зарывать в землю, но они должны распространяться на все отрасли, на все области нашей жизни, начиная, разумеется, от семьи, и кончая вообще любым действием в нашей жизни.
И вот когда на известной конференции в 1923 году собралась молодежь, собралась интеллигенция, вернувшаяся в Церковь, это стало своего рода Пятидесятницей русской эмиграции. Так это было воспринято: собравшиеся там чувствовали себя не на земле, а на небе. Это было действительно явление Божьей милости в ответ на большое стремление. Там были все наши крупнейшие имена: и Булгаков, и Бердяев, и митрополит Евлогий. И так это продолжалось на этой Пятидесятнице много-много лет. Тогда же было решено создать заграницей богословский институт, причем в несколько новом направлении — чтобы туда пришли профессора не только сословного характера, но чтобы профессора из гражданских школ слились с бывшими профессорами закрытых духовных академий. И создание Свято-Сергиевского института в Париже стало символическим актом этого дыхания свободы. И вот, может быть, в связи с этой выкинутостью, с пребыванием в чужой стране, либо, как во Франции, в основном в католической стране, либо, как в Германии или в Чехии, в протестантских странах, произошло расширение церковного сознания. Как в той, другой группировке было сужение церковного сознания: только для России и для России прошлого, то тут произошло, наоборот, расширение церковного сознания: почувствовали, что Православие — это не только для России, что Православие универсально. И встреча с Католичеством, встреча с Протестантством только утвердила, я мог бы сейчас сказать, нас, хотя в те годы это меня еще не касалось. Но это продолжалось и в 50-е годы, когда я очень много общался в так называемых экуменических кружках. Встреча с Протестантизмом и Католичеством только утвердила всех нас в Православии, и Православии, понятом не как религия одного народа, не как конфессия одной нации, а именно как наиболее чистая форма христианства, которая призвана осолить мир и которая имеет от Бога универсальное назначение.
Вот это погружение в инославный мир нас утвердило в Православии. О. Сергий Булгаков, когда еще был в России, испугавшись, что Русская церковь разделилась и вроде бы разваливалась, соблазнялся Католичеством. Но достаточно ему было прибыть на Запад, чтобы он понял, что Бог посылает его и вообще русских именно свидетельствовать на Западе о Православии. Это совершенно не значило, что мы наших инославных братьев отвергали. Наоборот, радость общения была и остается, но это была радость свидетельства и, надо сказать, что в этом свидетельстве о Православии были достигнуты по отношению как к католикам, так и к протестантам большие результаты, большие успехи. Благодаря нашим крупным и отцам, и богословам удалось действительно принести свидетельство о Православии, которое на Западе не знали или знали очень схематично и, я бы сказал, превратно.
Свидетельство о Православии было провозглашено, и Православие на Западе было узнано. И теперь, после этих 60–70 лет свидетельства, престиж Православия на Западе, несмотря на его историческое уничижение, на его историческую маломощность, во многих странах (я могу свидетельствовать только о Франции), как ни странно, стоит очень высоко, несмотря на то, что нас теперь очень мало, ведь мы теперь во Франции, в общем, горсточка, по сравнению даже с тем, что было в 30-х годах. Но тем не менее, с Православием считаются, по отношению к Православию у многих есть ностальгия. И это было достигнуто благодаря творчеству русской эмиграции. Православие оказалось не чем-то фольклоричным, не чем-то восточным, а именно универсальным. Я просто упомяну, очень схематично, какие-то основные достижения, хотя их столько, что они требуют длительного разговора.
Ну, во-первых, может быть, впервые за столетие, во всяком случае, но в действительности впервые скорее даже за несколько столетий, в эмиграции была произведена колоссальная работа в области богословской. Это не значит, что всё, что было сделано в богословии русской эмиграцией, нужно принимать как окончательное слово. Да и окончательного слова в богословии никогда нет и не будет, но одним о. Сергием Булгаковым, который, как я считаю, является самым крупным религиозным гением вообще XX столетия, было сделано невероятно много. Ему равных я не вижу не только в Православии, но и в Католичестве, и в Протестантизме. Это человек, проживший много разных жизней. Он приехал в эмиграцию после 55 лет и, дожив до 75 лет, за какие-то 20 лет «перепахал» всё поле богословия. И надо сказать, что даже те богословы, которые не разделяли его основные интуиции, так или иначе зависели от него.
Обновление языка Церкви, в широком смысле этого слова, мы находим, например, у о. Александра Ельчанинова. Я сказал, что у нас почти не было монашества. О. Александр Ельчанинов стал священником очень поздно, благодаря о. Сергию Булгакову, который его понудил к этому, и был им всего 8 лет, в довольно трудных условиях, но тем не менее, в монастырях не жил никогда. Но своим личным аскетическим опытом, своим личным устремлением и непрерывным чтением аскетических сочинений и творений ему удалось на пушкинском русском языке изложить основные проблемы аскетической духовности. Я считаю, что это колоссальный пример того, что может быть сделано при каком-то устремлении и что должно быть сделано, потому что этот аскетический дух, который необходим в религиозном опыте, нам теперь не всегда легко перенять из рук святых отцов, которые писали по-гречески и, все-таки, в других условиях, в других ментальных условиях, чем мы живем теперь, или даже из нашей духовной традиции XIX века, где язык, переполненный славянизмами, немножко мешает. А тут — я это наблюдал, когда ездил по России, — вот такой язык, передающий древнюю, но вечную аскетику на пушкинском языке, доходит до любого сердца и плодотворит.
Я ограничусь еще несколькими примерами. В эмиграции был обновлен язык икон. А это язык, пожалуй, наиболее фиксированный. Хотя когда входишь в храмы, видишь, как эволюционировал язык иконы, но всегда так или иначе выражая и дух, и ментальность своего времени: вечное в нем всегда соприкасалось и с историческим временем. В эмиграции удалось вернуться к очень строгой иконописи, которую только в начале XX века мы вообще открыли, поскольку забыли, чем была русская иконопись в XV-XVI столетиях. В эмиграции она была не только повторена, но обновлена и изнутри оживлена соприкосновением с художественными веяниями века, сопряжена с интенсивной богословской работой. Назову двух замечательных иконописцев — сестру Иоанну Рейтлингер (она недавно умерла в возрасте 90 лет в Ташкенте, так как в 50-х годах вернулась в Россию) и о. Григория Круга. Оба сумели, оставаясь верны основному канону древней русской иконы, изнутри ее как-то оживить.
Я дал три примера обновления языка Церкви: в мысли, в выражении аскетики, хотя ничего нового о. Александр Ельчанинов о ней не сказал в своих записях, но сказал по-новому (как говорил великий французский писатель и богослов Блез Паскаль, «мы всегда бросаем тот же мяч, весь вопрос в том, как мы его бросим»), и в иконописи. Я был вынужден ограничиться из-за времени только тремя областями. А в русской эмиграции были перепаханы и обновлены, творчески, изнутри, многие другие области, такие, как история церкви (Карташев), или даже «русской святости» (Федотов) и т.д., и т.д., я уж не говорю про более молодых моих друзей, которые обновили видение литургии и Евхаристии. О. Александр Шмеман с удовольствием увидел бы, что его книги — вот я даже сегодня видел в церкви его книгу, — что его голос, его литургический опыт нашел отклик в далеком Архангельске. Ему не довелось дожить до дней свободы, отчасти и потому, что он изнурил себя на почве церковного делания, всегда трудной. Но я рад, что вижу тут и плоды его обновленного видения. Сначала надо обновить видение, а затем обновляется, естественно, и язык.
Вопрос: Расскажите, пожалуйста, про служение о. Александра Шмемана. Дело в том, что книги его мы знаем, а вот как проходило его служение — не очень ясно.
— В молодости ему хотелось, чтобы литургия была действием народа, чтобы она соответствовала своей интенции. И даже в начале своей священнической жизни он устраивал литургии небольшой общины, которая могла это понять. Ну, де-факто, у нас некоторые вещи сами собой установились, например в Студенческом христианском движении: служили на съездах, где фактически иконостаса не было, и тогда литургия совершалась, как у Златоуста хорошо сказано, «в полном единстве клира и народа». О. Александр служил, действительно, вдохновенно и одновременно степенно. В его служении не было никакой эмоциональности, того, что может походить на некоторую взвинченность. Совсем нет. Я вспоминаю его службу у Солженицына. Александр Исаевич в своем доме построил небольшую часовню и иногда в нее приезжал служить о. Александр, правда редко, так как он послал хорошего священника в приход недалеко от того места, где жил Солженицын. Но тем не менее, мы участвовали в литургии, которую о. Александр служил, читая, разумеется, так называемые «тайные» молитвы вслух, но без слишком большой нарочитости, без того, чтобы слишком «нажимать на педаль». У него был абсолютный слух, абсолютный вкус литургический.
И вот когда отслужили литургию, ко мне подошел Александр Исаевич и сказал: «Как странно! Почему когда служит о. Александр, — а он служил по-славянски, — я всё понимаю?! А когда служат другие — я не понимаю?» Вот у о. Александра была необычайная ясность, четкость, строгость в стиле служения. Он действительно жил целиком в литургии, а в жизни он был человек очаровательный, очень культурный, очень остроумный, даже едкий, но едкий без злобы. Вообще свободный. Свободу, вот действительно, удалось воспитать. В эмиграции было много настоящей свободы в отношениях между народом и священниками, между самими священниками, даже в богослужении. Одновременно доходчивость и простота. Правда, это всё в маленьких церквах, где это легче. Помню служения о. Василия Зеньковского, более простые и обыденные, хотя он был прекрасный проповедник. Никогда не проповедовал больше 5 минут. Но за 5 минут ему удавалось сказать основное. О. Василий жил не только литургией. Он был ученым, духовным отцом, даже в преклонном возрасте, необычайно заботливым, как и о. Сергий Булгаков. О. Сергий Булгаков, вот между пятьюдесятью и семьюдесятью годами, несмотря на болезни и заботы, произвел колоссальное богословское творчество, которому нет равных, начиная с XIV века, но он не только сидел в своем кабинете, у него было очень много духовных чад, точнее чад-друзей, и он мог пересечь весь Париж на метро и т.д., чтобы причастить больного или умирающего.
Эта внутренняя духовная свобода сочеталась с довольно большим консерватизмом формы в том, что касалось церковнославянского языка, поскольку наши миссионерские задачи относились скорее к тем, кто вообще потерял русский язык. Так что переводить на русский язык или перекладывать что-либо на русский было не так существенно. А вот вводить французский язык — это была наша задача. В молодости вместе с о. Иоанном Мейендорфом и другими мы переводили литургию на французский язык.
— Есть ли в современной литургической жизни на Западе восполнение опыта о. Александра Шмемана? Можно ли сказать, что его опыт был дополнен?
— О. Александр Шмеман довольно быстро покинул Францию и уехал в Америку. Он стал апостолом Америки, и в Америке, там, где он действовал, его опыт распространился очень широко. В Париже меньше, более выборочно, в миссионерских приходах, т.е. в приходах, где служат на французском языке. Но это был не только его опыт, это вырастало стихийно, как я говорил, на наших съездах. Я всегда считал, что «тайные» молитвы нужно читать вслух, потому что в них ничего таинственного нет. Те возгласы, которые обычно произносятся вслух, гораздо более таинственны, они действительно учреждают таинство, а «тайные» молитвы только объясняют, развертывают это таинство.
Я помню, как по этому поводу на меня нападали в Греции лет 30 или 40 тому назад. И вот недавно я узнал, что в Греции теперь почти повсеместно «тайные» молитвы читаются вслух. Так что всё меняется сообразно с потребностью дня. Тут довольно простая диалектика. Может быть, когда-то нужно было оберечь таинство, таинственный момент богослужения. Но его так хорошо оберегли за стеной иконостаса, за «тайными» молитвами, что настало время его раскрывать.
Недавно в Москве я был в одной церкви — иконостас сплошной, наглухо закрытый, акустика такая, что священника не слышно. Происходит какая-то, почти как раньше латинская, «молчаливая месса». Но это почему-то никого не возмущает.
Раньше оберегали таинство. Теперь же пришло время — это стало совершено очевидно в ХХ веке, а началось это, я думаю, даже еще с о. Иоанна Кронштадского — таинство раскрывать, давать к нему доступ народу (надо помнить, что ведь в XIX веке почти никто вообще не причащался). И причем, что странно, это понимание начало приходить почти одновременно и в Западной, и в Российской церкви, начиная с о. Иоанна Кронштадтского, и потом всё дальше и дальше распространилось. Я вот еще застал в Париже синодальные церквиТ.е. церкви, находящиеся в юрисдикции Карловацкого синода. — Прим. ред. — в детстве меня иногда водили как раз в церковь той группировки, которую я охарактеризовал как «нетворческую». Чаша выносилась — и никто не причащался. Для меня все это раскрылось на наших съездах, которые были в своем роде внутренним оглашением, и без всякой нарочитости, без всякого определенного усилия.
— Как у вас осуществляется помощь людям, которые входят в церковь? Есть ли катехизация, оглашение?
— Ну, я думаю, у нас все несколько иначе. Мы в этом смысле менее миссионерская церковь, то есть у нас ходят в церковь люди уже сформированные — либо в семье, либо в воскресных школах. Во французском же приходе, действительно, устраиваются лекции, беседы, катехизация.
Сам я не из специально церковной семьи, но пришел к церкви через кружки. Мы собирались между собой, изучали Евангелие, послания. Правда, среди нас были студенты-богословы, были люди более искушенные. В Париж, конечно, всегда стекается много сил. В Богословский институт приезжали студенты со всего мира, и вот они мне очень помогли, потому что приход, в который я заходил в детстве, вряд ли бы меня в церкви удержал. В частности, мне очень помогли православные студенты, приехавшие из Сирии и Ливана, хотя бы тот факт, что они — православные арабы, будучи людьми семитской культуры, имеют более прямой доступ к Писанию. Это были молодые студенты — сирийцы и ливанцы, у которых церковь в те годы была в упадке и т.д. Одного из них разбудил Николай Александрович Бердяев, между прочим. Он думал было уже переходить в Католичество, а чтение Бердяева его остановило на этом пути. Теперь он митрополит Гор Ливанских, довольно известный богослов Георгий (Ходр), мой большой друг. И тогда же учился в Париже другой мой большой друг — я даже учился у него арабскому языку — теперешний патриарх Антиохийский Игнатий (Хазим).
Конечно, Париж в этом смысле благословенный город, потому что туда приезжают православные из всех стран. Сейчас нам очень помогают приезжающие учиться в Париж румынские монахи. Так что у нас — непосредственно универсальная перспектива церкви.
— Скажите, а богослужение у вас на каком языке ведется?
— Вы знаете, у греков — по-гречески, у румын — по-румынски, у русских — в основном на церковнославянском.
— А у сербов — по-сербски?
— Сербы по-разному — у них сербский смешан с церковнославянским, и кроме того, есть целый ряд приходов, где служат на французском языке. Французский язык оказался вполне приспособляемым и достойным богослужения. Во Франции перешел в православие один бенедиктинский монах, очень яркий и цельный человек, к тому же прекрасный стилист. Он перевел очень много богослужебных текстов на французский язык. В каком-то смысле у нас нет русской церкви. У нас множество разноплеменных церквей.
— А на латыни служат где-нибудь во Франции?
— Увы, да. Как вы знаете, произошел обрядовый раскол и в Католичестве. Один епископ, кстати выдающийся, не перенес изменений Второго Ватиканского собора, в частности перехода на французский язык, ну и вообще на национальные языки. В его «расколе» сохранилась и обрядность, и дух такими, какими они были до Второго Ватиканского собора. И там служат по-латински. Проповеди произносятся суровые, строгие. Но в этом заметен — и в политическом смысле, и во всех смыслах — правый уклон. Это смотрение назад, а не вперед. Другое дело, что Католичество задержало продвижение церкви вперед на много столетий, из-за чего оно, отчасти, и породило Протестантизм. В реформах Второго Ватиканского собора иной раз с водой выплескивали и ребенка. По-разному, конечно, было, но тем не менее, несомненно, произошло обеднение литургической жизни.
— Мы в последнее время имели возможность познакомиться с Вашим издательством и с Вашими изданиями, такими, как, например, книга Н. Зёрнова «Русское религиозное возрождение». Вы не могли бы вкратце рассказать о творческих планах и т.п.
— Тем более, что у нас почти нет творческих планов. Нам время тлеть, а вам цвести…
Я счастлив, что мог в свое время составить и издать книгу об о. Алексее Мечеве. Но в основном уже тогда материалы шли из России. Опыт эмиграции постепенно должен быть воспринят тут, он тут и воспринимается, и тут рано или поздно родится его продолжение. Но я издательство еще не закрываю, я при нём издаю журнал. Вот я вернусь во Францию, и мне нужно будет подумать — закрывать его окончательно или еще протянуть некоторое время. Если что и будем издавать, то уже в России, в нашем филиале «Русский путь» в Москве, куда я недавно переслал тоже прекрасную книгу замечательного подвижника Сергея Фуделя «Наследие Достоевского». Она вышла и уже распродана, сейчас мы готовим второе издание. Так что если что будем издавать, то здесь, потому что на русском языке у нас на Западе больше почти нет читателей.
— Издается ли что-нибудь из книг о. Сергия Булгакова?
— Я ездил трижды в Ливны, в город, где он родился и где было заложено все его мировоззрение. И там, в Орле, изданы на губернские средства две книги Булгакова, собрание его дневников. Малая трилогия Булгакова будет издана довольно скоро в издательстве «Алетейя».
— Скажите, пожалуйста, по какому календарю живет Православная церковь в Европе?
— Кто как: одни — по старому, другие — по новому. Греки живут по новому, разумеется; румыны по новому; сербы колеблются, наши французские приходы живут по новому. Я прихожанин кафедрального собора, но там две общины, два прихода: один русский, там служат по-церковнославянски и по старому календарю живут, а в нижней церкви, где община французская, там живут по новому календарю. Это не Бог весть как удобно, но это показывает, что календарь не имеет существенного значения. Я удивляюсь, что в России придают такое значение календарю. Для нас это не проблема. Половина православного мира служит по новому, другая остается при старом. Пусть и будет такой плюрализм. Удобен он или не удобен — это другой вопрос. Патриарх Тихон хотел перейти на новый, но обстоятельства не позволили. Я вот только удивляюсь, что это вырастает даже в догматическую проблему. Это мне совсем непонятно. Лично я предпочел бы жить по новому календарю, потому что мне приятно было бы праздновать некоторые праздники одновременно с местным населением. Ведь живя в католической западной стране, когда подходишь к русскому Рождеству, то ты уже перебрался через французское Рождество, а нельзя же как-то не ощущать праздника вместе со своими братьями-христианами. Потом еще Новый год, и тут уже сил не хватает. А с другой стороны, вот штрих нашего плюрализма, дети мои празднуют почти все по новому календарю. (Правда, мой сын женат на гречанке, а для гречанки старый стиль уже давно не существует). И мы вынуждены с ними праздновать до некоторой степени. Но тем не менее, мы празднуем и русское Рождество, потому что тогда как-то можно больше сосредоточиться.
Так что видите, опыт Православия на Западе, Православия межплеменного и многоплеменного, позволяет релятивизировать вопросы, которые, к сожалению, тут вырастают недолжным образом в целую проблему.
— Расскажите, пожалуйста, про ваши воскресные школы. Приходилось ли Вам бывать в них, и какой принцип существует в воскресных школах?
— Я никогда сам не учился в воскресных школах и очень мало в них преподавал. У нас никакого принципа специфического, я думаю, нет. Ну, во-первых, там преподается русский язык, чтобы не утерять совсем связь с русской культурой. Затем у нас довольно много пособий. Наш пятитомный «Закон Божий», который тут был переиздан, а потом исчез, — это прекрасное основное пособие и по истории церкви, и по Священному писанию. Тут тоже должна быть свобода. Многое зависит, понимаете, от преподавателя.
— Много ли во Франции в церкви молодежи и существует ли какая-либо специальная работа с ней?
— Да, есть молодежь в церквах. Я считаю, что в православных церквах состав достаточно молодой. Именно потому, что с ней велась и ведется работа в молодежных организациях. Она ведет ее отчасти сама, отчасти с руководителями. Но широко применяется принцип свободы. В основном это кружковая работа по изучению Писания, по изучению русской богословской философской мысли. Большое значение имели в моей жизни, когда я был молод, съезды Русского студенческого христианского движения. Особенно в те годы, когда действительно было кого послушать и на кого посмотреть, в частности, о. Александра Шмемана или о. Василия Зеньковского. Устраивался трёхдневный съезд, в центре которого была литургия, вокруг нее доклады и их обсуждения.
— А где в церквах больше молодежи — здесь или во Франции?
— Я немного занимался церковной социологией. Ну, на Западе мы совсем маленькая группа. В России же меня поражало в некоторых местностях, что в церквах одни женщины, и скорее немолодого возраста. Такое впечатление было в Смоленске, в кафедральном соборе. А недавно я в воскресенье решил посетить сразу несколько церквей и был поражен, что в небольших московских приходах много молодежи. Так что ответить однозначно очень трудно.
— Расскажите, пожалуйста, о Свято-Сергиевском богословском институте, в частности об основных направлениях обучения в нем.
— Основное его направление… Ну, я не могу сказать, что он сейчас переживает кризис, он скорее видоизменяется. Все русские богословы ушли или переехали в Америку, ну, а в Америке они уже ушли из этой жизни и большого количества учеников они не оставили. Сейчас в Богословском институте происходит, я бы сказал, национальная мутация, там преподают в основном на французском языке, там много французов, перешедших в Православие из Католичества и из Протестантизма. Там вообще сейчас не много студентов и не очень большой коллектив профессоров. Но до сих пор в него приезжают учиться с разных концов православного мира, в частности, чтобы писать докторские диссертации или кандидатские сочинения. Там бывают и сербы, и греки, и румыны, и другие студенты, в основном из Европы. Сказать, что там сейчас есть какое-то определенное направление, я не могу. Ну, историю церкви там преподает выдающийся человек — француз, перешедший в Православие, Оливье Клеман, книги которого тут переведены и изданы. Но ему тоже уже 75 или 76 лет, и он мечтает об отставке. Декан сейчас о. Борис Бобринский, один из наших замечательных, я сказал бы даже не литургистов, а литургов. Он служит, грубо говоря, по-шмемановски. Они тоже были друзьями, мы все были такими друзьями. Но он сейчас тоже болен. Так что у нас на Западе вопрос нашего бывшего социума — это вопрос выживания. И тут трудно даже прогнозировать. Богословский институт несомненно выживет. Его сейчас поддерживают: там достаточное количество французов, перешедших в Православие, там хороший интеллектуальный уровень и там будет продолжаться богословская традиция. Хотя там тоже по-разному. Богословский институт, как бы сказать, решительно повернулся спиной к о. Сергию Булгакову, который его создал и без которого этот институт просто не существовал бы. Может быть, потому, что Булгаков был слишком сильная личность, а от сильных личностей любят на определенном этапе отходить, чтобы существовать самостоятельно, и т.д. Так что мы еще не бедны, но уже не богаты.
— В продолжение этого вопроса. Вы сказали, что институт сейчас переживает кризис. С чем он связан?
— Он переживает кризис просто социологический. Ушли представители и потомки русской эмиграции, которые были на величайшей высоте, потому что русская культура перед революцией достигла поразительного расцвета, расцвета в целом ряде областей, если не во всех областях. Она уже тогда опережала Европу в искусстве, например, в музыке Стравинского, Прокофьева. Вообще, Россия в культурном смысле шла вперед семимильными шагами. Всё это было подстрелено и, может быть, даже убито. Потому эмиграция и могла, поняв, что Бог от нее хочет, создать такое творчество. Но последователей, даже чисто биологически, у нее почти нет. Так что это кризис в смысле видоизменения. Но насколько этого достаточно, насколько это прививается, насколько эти французы, перешедшие в Православие, укоренены в этой традиции, — это покажет время. Среди них есть, даже среди молодых, очень сильные богословы… Скорее, через этих французов усиливаются, я думаю, некоторые догматические пункты Православной церкви, которые противостоят догматам тех католических и протестантских церквей, откуда они перешли. Ведь французы приходят не из православных семей, они приходят, как Клеман пришел, большей частью из Католичества или из Протестантизма, и поэтому их интересует специфика Православия именно в догматическом смысле.
— Никита Алексеевич, а как разрешается во Франции проблема православия и семьи? На каком уровне встает этот вопрос?
— Насколько это нас заедает или не заедает, да? Заедает, конечно. Во всем мире произошел некоторый обвал семейной традиции. Не обязательно даже обвал семейной традиции, но к этим вопросам появился некоторый иной подход. Во всяком случае, иной по сравнению с теми требованиями, которые предъявляет христианская жизнь. Это происходит повсеместно. Но может быть, не нужно к этому относиться слишком ригористично. В частности, я имею в виду практику добрачной совместной жизни. Ну, все-таки очень многое изменилось даже чисто технически, и с этим так или иначе нужно считаться. Да, где-то должно ставить определенные преграды, но где, в чем? Да, где-то должна быть проведена черта, но, может быть, она должна быть гибче, может быть, надо различать между тем, что действительно является грехом, и тем, что является лишь слабостью и т.д., потому что так изменилось всё вообще в воздухе. Я просто вижу, что в поколении моем и поколении моих детей все-таки ставятся разные проблемы. В общем, я не знаю, но когда говорят «церковь», надо понимать, что мы сами и есть церковь. Так что это вопрос совести каждого по отношению к требованиям чистоты евангельской жизни. Может быть, не нужно, чтобы в этой области были самые ригористические требования, потому что есть грехи и другого свойства. В общем, это очень трудный вопрос, который нас всех мучает, и который, я думаю, церкви надлежит разрабатывать, не закрывая глаза на некоторые явления, которые трудно будет остановить и с которыми нужно как-то считаться.
О. Иоанн Мейендорф на эту тему много думал. Его книга о браке написана уже с учетом новых условий, но всё это требует большого рассмотрения.
— А как обстоят дела во Франции с Крещением? Есть ли такие люди, которые, как это часто бывает у нас в России, крещены, но в церковь не ходят?
— Как ни странно, во Франции до 80% крещеных, но посещаемость церквей сравнительно низкая. Я сейчас за этим не очень слежу, поэтому не могу сказать точно, но не больше 5%. Так же и в Англии, так же и в Греции. Мы, церковные христиане, — малое стадо.
— Никита Алексеевич, как по-Вашему, насколько удалось русской эмиграции донести свой опыт до России?
— Я не судья, но считаю, что этот опыт пока остается сам по себе — время прошло очень небольшое. Но я вижу по количеству переизданных книг (поскольку этот опыт может быть воспринят сейчас, в основном, только через книги), что постепенно он все-таки входит в сознание людей, входит, разумеется, как всегда, с конфликтами, но и в эмиграции этот опыт был не без конфликтов. Конфликтов не нужно бояться. Лишь бы не было удушения мысли, лишь бы не было односторонности. В церкви должна быть любовь.
— Хотелось бы узнать, сохранились ли в Вашей семье какие-нибудь реликвии, касающиеся Ленина?
— Да, сохранились. Мой дед хорошо знал Ленина. Деда я застал еще в живых, он жил в Белграде и был арестован немцами по доносу русского эмигранта, и его судили в Австрии как друга Ленина. Правда, на него донесли, потому что он совершенно не переносил нацизм, почти так же, как не переносил и большевизм. А Германия была отчасти его второй родиной, во всяком случае, родиной его деда и была для него очень близкой страной. Он переживал гитлеризм как падение Германии, почти так же остро, как большевизм как падение России. Так что его арестовали как друга Ленина, но он смог легко, на чистейшем немецком языке, оправдаться. Его выпустили и даже позволили ему, поскольку он жил в ужасных, бедственных условиях, выехать к сыну, т.е. моему отцу. Они приехали во время войны уже почти доходягами, но полтора-два года они все-таки пожили, так что я с ним мог общаться.
Ленина он хорошо знал, знал изнутри и написал о нём воспоминания, которые я, как уже письменное свидетельство, напечатал в одном из номеров «Вестника РХД». Мой дед был человек не эмоциональный, хотя и страстный. То, что он написал о Ленине, действительно отражает его характер в каком-то смысле. Единственный раз в жизни он в нём ощутил то, что он назвал леденящим холодом. Для него Ленин был образом антилюбви. Я думаю, это отчасти соответствует и тому делу, которое Ленин сделал. Если вы возьмете его знаменитое, теперь ставшее общеизвестным, письмо Молотову в связи с процессом об изъятии церковных ценностей, то увидите, что это, действительно, шедевр злобы, ненависти и цинизма. Там он пишет, что нужно воспользоваться тем, что в России голод и наблюдаются случаи антропофагии, когда люди едят друг друга, чтобы расстрелять как можно больше духовенства, чтобы они это запомнили на многие десятилетия. Когда я это письмо напечатал в 1970 году во Франции, французы не поверили в его подлинность, в голову их это не могло войти. Знаменитый мыслитель Жозеф де Местр сказал, что самое опасное, что может быть, это что придет Пугачев из университета. Это было пророчество. И вот Ленин — это была какая-то пугачевщина университетская, его примеру потом последовал, по-моему, Пол Пот. Но это письмо — это документ фантастический. Подумайте, воспользоваться тем, что в России возродился каннибализм, чтобы расстрелять побольше духовенства! Это жуткое письмо, оно у меня как раз от деда. Это 1922 год, когда был расстрел в Шуе, когда было изъятие церковных ценностей, тогда же был процесс митрополита Вениамина.
Изъятие ценностей — это была совершенно типичная провокация, очень хорошо рассчитанная. А когда соглашались отдать все ценности, даже священные сосуды, как сделал митрополит Вениамин, тогда и расстреливали. Больший цинизм трудно себе представить. Так что, я думаю, дед был прав, говоря, что Ленин был человек ледяного холода. Мы до сих пор вынуждены лицезреть его памятники в некотором количестве, но что делать?
— Может быть, он был человеком ледяного холода еще до 22-го года?
— Да, он это писал о своем личном общении с Лениным в 1900 году. Они ведь были до некоторой степени соратниками. Они не сходились во всём, и Ленин потом с ним полемизировал, поскольку дед был буржуазный социалист и революционер. Мой дед был тогда основателем социал-демократической партии, он написал и первый манифест.
— Никита Алексеевич, расскажите о Ваших впечатлениях о прошедшей в сентябре 1998 г. в Москве конференции «Язык Церкви». Нужны ли, на Ваш взгляд, подобного рода конференции?
— К сожалению, я смог быть только в первый день и на закрытии, но я был поражен высоким уровнем этой конференции, внимательностью и открытостью присутствующих, и считаю, что это именно то, что сейчас нужно. Сейчас не нужно конфликтовать, не нужно переть на рожон, а нужно проводить вот такие конференции, которые позволяют все эти вопросы углубить.
Хорошо, что там были высказаны разные мнения, что были там и защитники церковнославянского языка. Дай Бог, чтобы таких конференций было побольше, и чтобы это распространялось более широко, ведь Москва — это еще не вся Россия. Такая конференция — достижение, и мне очень жаль, что я не мог на ней присутствовать с начала до конца.
— Как бы Вы определили то качество, по которому мы можем назвать писателя христианским? Кого бы Вы могли отнести к христианским из русских писателей, поэтов?
— Вы знаете, вся русская культура пронизана христианством. Я бы не стал говорить, что вот тот или иной писатель — христианский или нехристианский. Христианином он может, в крайнем случае, и не быть, во всяком случае в том смысле, в котором мы это обычно говорим. Но, скажем, если вы возьмете XIX век, то он у нас начался с писателя, которого я назвал бы святым, и он действительно святой. Вы, может быть, поймете, кого я имею в виду, потому что с него началась, отчасти, наша литература в XIX веке. Это учитель Пушкина, действительно добрый человек новейшей России. Я имею в виду Василия Андреевича Жуковского. Я причисляю Жуковского не к лику писателей-христиан, а к лику святых писателей. Он был человек святой именно своею жизнью. Вспомните, что о нём писал Тютчев: «Веял в нем дух чисто-голубиный». Сегодня я прочел два стихотворения Баратынского, предшественника, в каком-то смысле, Достоевского. А что же вы про Достоевского скажете? Я его тоже причисляю к святым, к какому-то такому ряду святых, которых нет в других культурах. Я только что прочел все письма Достоевского. Это поразительная вещь! Я только утвердился в том, что это был человек святой.
Гоголь. Человек, замученный своими проблемами, своим аскетизмом, но написавший — все-таки этого ни в одной стране нет! — прекрасное объяснение литургии. Кто это делал в середине XIX века? И тоже, между прочим, был назван Аксаковым святым. Да и старик Аксаков был не без святости, хотя любил играть в карты и ходить в Английский клуб. И Хомяков (тоже писатель и, между прочим, неплохой поэт) — величайший богослов, учитель церкви. Так он был назван Ю.Ф. Самариным. Да, он курил трубку, ну и что? Но человек он был святой жизни, во всех смыслах святой жизни. По данному матери обещанию он сохранил девственность до позднего брака, пережил смерть двух своих детей и раннюю смерть жены. А как он ее пережил? Это не аскетика, но это такой духовный урок. Надо прочесть, что он пережил в момент смерти жены, какое чувство собственной греховности!
В этом-то и отличие русской культуры. Я не говорю: христианский писатель — не христианский писатель: вся наша культура, словесная во всяком случае, свидетельствует о Христе. И причем это не только свидетельство о Христе, но часто еще и мученичество. Мы и к Пушкину относимся, может быть, не в буквальном смысле как к святому, но как к мученику. И вообще у нас мучеников очень много. Толстой — тоже мученик. Понимаете, Толстой был замучен своими поисками правды. Замучен! И потому я его не отлучал бы от церкви, его не нужно было отлучать, поскольку он сам себя отлучил. Но, правда, его проповеди довольно двусмысленные.
И так далее, и так далее. Я просто удивляюсь какой-то даже перманентности этого явления. Ахматова. Пастернак. Корней Чуковский считал Ахматову последним (она тогда и была последним) православным поэтом. Поэзия Ахматовой насквозь проникнута христианством. Ну, а Мандельштам? Человек пришел совсем из иного мира, из иудейского хаоса, и пошел крестным путем, пошел на вольную смерть. Он тоже может быть причислен к лику святых. Это особый ряд и род… Мы их не будем канонизировать и писать их иконы, но это особый ряд именно русской культуры. Он, может быть, так, сознательно, и пошел на вольную смерть: написал стихи о Сталине в 1933 году, и какие! — и прочел их своим друзьям… Он знал, на что он идет.
— Никита Алексеевич, скажите какое стихотворение Мандельштама Вам особенно дорого?
— Я могу сказать, что очень многие его стихотворения мне дороги, но я считаю, что у него в конце жизни… — эти стихи о неизвестном солдате. Это фантастическая вещь. И его самое последнее стихотворение, которое он завещал Пушкинскому дому: «Есть женщины сырой земле родные». Это стихотворение о Воскресении, очень такое тактичное. А «Тайная вечеря»? Он понимал, что он мистически участвовал в Тайной вечере перед своим концом. Это фантастика! Увидеть Тайную вечерю перед своей смертью! А человек он был нецерковный.
— Расскажите, пожалуйста, кратко о вашем пути к Богу и в Церковь.
— Кратко это довольно трудно, потому что путь этот всегда долгий и никогда не оканчивающийся, до некоторой степени. Ну, скрещиваются всегда несколько линий: личный поиск и встреча со Христом в чтении Евангелия, с одной стороны, а с другой — встреча со свидетелями христианства. Но более точно, это была встреча не просто с отдельными свидетелями, это была встреча с РСХД, которое было своего рода подвижной общиной. Она была связана с одним храмом, но не обязательно. Это было, скорее, межприходское и даже межцерковное движение, потому что в нем участвовали люди из других Православных церквей, и вот эта живая жизнь молодых людей из разных приходов, но объединенных одной мыслью — как можно глубже проникнуть в тайны христианства и в исполнение христианских заповедей, в широком смысле этого слова, это и сделало, я думаю, возможным мой приход в Церковь и, до некоторой степени, мое служение в ней в качестве мирянина. Может быть — я иногда задаю себе этот вопрос — без этого движения я в Церковь и не пришел бы. Пути неисповедимы, но для меня в эмпирии церкви были и отталкивающие моменты даже еще в моем детстве.
— Есть ли в Вашем случае опыт воцерковления своей профессии?
— Понятие воцерковления очень близко выражает, если такая вообще есть, идеологию движения РСХД. Сам термин этот обоюдоострый, ведь что значит воцерковление? Я считаю, что это скорее пронизанность, пронизанность христианским духом. Все должно быть так или иначе им пронизано. Есть, конечно, какие-то евангельские требования, которые должны быть человеку предъявлены, и мы их старались исполнять. В частности, именно в семейной жизни, в нравственной жизни. Что же касается профессии, понимаете, моя профессия сама носит, в каком-то смысле, «духовный» характер. Когда преподаешь, читаешь лекции, то это уже какое-то духовное действие. Несомненно, студенты чувствуют, к какому духовному миру я принадлежу, но я скорее старался быть очень внимательным к тому, чтобы никак не насиловать совесть своих студентов.
У меня был прекрасный учитель в области славистики, русофил, очень ревностный католик, но который как-то изнутри сиял. Он никогда не навязывал свое видение мира, и это у него происходило естественно, и потому его принимали все — и марксисты, и немарксисты, и христиане — и католики, и православные. В этом смысле этот замечательный человек был для меня примером. Я, конечно, не был на его уровне в своем преподавании, но хотел следовать его примеру. Если что перейдет к студентам от моих духовных, религиозных убеждений, то пусть перейдет, но пусть это будет скрыто и ненавязчиво. Свободу слушателя надо максимально оберегать. Это и соответствует французскому, так называемому латинскому стилю преподавания, когда религиозные мотивы не должны звучать слишком громко.
— Несколько вопросов о современности. Еще Достоевскому принадлежит мысль, что «церковь в параличе». Как бы Вы охарактеризовали болезни сегодняшней церкви и возможные методы их «лечения»?
— Когда Достоевский говорил, что церковь в параличе, это было, конечно, верно для целого ряда аспектов церкви: действительно, к концу века намечается некоторый спад церковный. Но ведь и XIX век был очень богат в религиозном и церковном отношении: блестящий пророк и богослов Хомяков, пророческое старчество Оптиной пустыни и других монастырей, возрождение духовных школ, блестящие миссионеры, начиная с Макария Глухарева и кончая Николаем Японским, и т.д. Так что церковь, действительно, была в параличе, но она была также и очень активна, несмотря на этот паралич, который происходил от ее подвластности государству, который ей мешал на уровне общества. Так что если говорить про сегодняшний день церкви, то те искушения, те проблемы, которые перед ней возникают, совершенно естественны. Ведь она была изничтожена. В 1939 году ей позволили как-то дышать, но потом ее снова стали преследовать. Потом она разделяла общую стагнацию, затем возродилась, но уже одно это перечисление показывает, из каких ненормальных положений, из какого далека церковь идет. В ответе, который нам написал святейший патриарх, он и пишет, что некоторые вещи приходится начинать буквально с нуля, из ничего, что объясняет разные девиации, т.е. некоторые уклоны. Во все времена у церкви были болезни. Сейчас тоже намечается какая-то определенная болезнь церкви — в ее авторитаризме, в ее непонимании духовной свободы, в отсутствии миссионерского духа.
Это болезни, это уклоны, и дай Бог, чтобы они не усиливались. Но не нужно считать, что церковь сейчас в параличе больше, чем когда-либо; это отчасти не болезни роста, а болезнь роста, потому что церковь восстановилась, за несколько лет ее кадры обновились, переполнились, но это все слишком быстро протекало, неорганично. Потому она сталкивается с целым рядом проблем, которые, я надеюсь, внутренне она преодолеет. Когда мы говорим «церковь», у нас это понятие всегда двоится. Ведь церковь — это мы все, а не то, что мы называем таким отчасти диким наименованием «священноначалие». «Епископ в церкви и церковь во епископе» — это одно, но все мы равны перед Богом, мы равны даже перед таинствами. Нет выше таинства Евхаристии, и мы ее воспринимаем одинаково. Не в одинаковой форме, но одинаково, иногда даже и в одинаковой форме. Так что, думаю, нужен возможно более обширный возврат к установкам Собора 1917/18 годов. Нужно, чтобы был возврат к пророческим голосам в Церкви. Первый пророческий голос — это Хомяков, но были и другие. Такими пророческими голосами являются и о. Сергий Булгаков, и мать Мария, и многие другие, которых напрасно боятся; но пророческих голосов всегда боятся. Хомяков тоже не мог публиковать свои сочинения в России, он их публиковал заграницей; Макарий Глухарев не мог, так как не хотели поощрять его попытки переводить Священное писание на русский язык. Это и был паралич церкви. Но надо надеяться, что эти задержки, задержки в становлении церкви, в росте церкви не помешают ее развитию. Есть некоторые тревожные симптомы, это несомненно. Они тревожны, они прискорбны для положения церкви в стране. Они вызывают большое беспокойство в заграничных Православных церквах, и не только в бывшей эмиграции, но и во многих поместных церквах, которым некоторые действия тех или иных епископов непонятны. Но надо иметь в виду, что это всегда было, и боюсь, что это всегда будет. Но тем не менее, с этим нужно бороться. За правду церковную надо бороться.
— Никита Алексеевич, что из опыта Русской православной церкви в эмиграции мы, как христиане, должны в первую очередь унаследовать?
— Ну, знаете, творчество русской эмиграции в области церковной, богословской колоссально. Оно — на века. Основное творчество легло на три-четыре десятилетия, но восприниматься оно будет, возможно, даже не один век. Может быть, самое существенное — это очень трудное понятие, но экзистенциально ощутимое как некоторая данность — это свобода церкви. Русская церковь в эмиграции в лучшей своей части имела опыт свободы. Свободы от государства, свободы даже от общества, которое может давить. Она, действительно, будучи никем не преследуема и никем не опекаема, ни от кого не завися, почувствовала единство церкви, единство иерархичности церкви и ее тела, единство тела церковного, спонтанно действуя в духе хомяковской экклезиологии. Хомяков считал, что христианство это и есть свобода. Так что церковь, церковь в своей совокупности, но и церковь в своей иерархической части, должна понять, что она и есть свобода, что где Дух Господень, там свобода
. Без этого не может быть творческой, живой церкви.
— Еще один небольшой вопрос, связанный с тем, что Вы занимались творчеством Мандельштама. Мы знаем, что богатому трудно войти в Царство Небесное, и человек, богатый дарами искусства — художник, поэт, писатель, музыкант — очень часто сталкивается с непреодолимыми препятствиями на пути к Богу. Вот, с Вашей точки зрения, почему так сложно именно людям искусства, людям, наверное, талантливым, прийти к Богу?
— Не знаю, это как раз большинства русских писателей, наверное, не касается, и в частности Мандельштама. Казалось бы, человек идет из совершенно чужого племени — ведь он родился в еврейской семье, если я не ошибаюсь, его дед даже был раввином; или, во всяком случае, дед его обучал еврейской грамоте, еврейской религии. Правда, Мандельштам пришел не к церкви, он пришел к христианству. Он крестился в Протестантской церкви, потому что здесь была некоторая трудность: я думаю, что Православная церковь представлялась его воображению как слишком национальная церковь. Он не почувствовал, и он ведь не мог почувствовать ее универсальность. Одно время он склонялся к Риму — именно как к средоточию универсализма, но потом сказал: «И никогда он Рима не любил». Но ему было дано следовать непосредственно по пути Христа, т.е. принести себя в качестве вольной жертвы. Он, пожалуй, единственный писатель, который сознательно пошел на вольную жертву, написав свои стихи о Сталине в 1933-м году. Это один из тезисов моей книги, который, конечно, встретил большое противление в некоторых кругах, но тем не менее, я придерживаюсь этого мнения, я его исповедую. Это было вольное принесение себя в жертву за грехи сталинизма, за грехи времени. Это почти сознательно у него было, ведь он Ахматовой сказал в 1934-м году: «Я к смерти готов». И вся его поэзия последних лет — это приготовление к смерти. И даже раньше. Он, почти как Пушкин, который сказал: «Не хочу, о други, умирать…», написал: «Еще не умер я, еще я не один». И в конце жизни, как и у Пушкина, у него появился целый спонтанный цикл, или просто несколько стихов, соприкасающихся друг с другом, которые посвящены основным моментам Христова пути. Есть стихотворение о Тайной вечере, есть стихотворение о Голгофе, в которые он вписывается сам, — и в Тайную вечерю, и в Голгофу. И очень тонкое стихотворение, я бы сказал, апофатическое, о Воскресении, которое он считал своим самым существенным стихотворением, которое он завещал Пушкинскому дому. Вот вам пример Мандельштама. Вообще, на русском искусстве, на русских людях искусства не замечается никакой трудности прихода ко Христу. Почти все пришли ко Христу, включая Стравинского, Кандинского, если брать другие области. Это более верно о некоторых людях искусства на Западе, может быть, но и расцвет французской прозы первой половины XX столетия связан с Католичеством. Так что я не согласен с вашим тезисом.
— И последнее, Никита Алексеевич. Иван Бунин писал, находясь в эмиграции: «Человечество живет еще Ветхим Заветом, люди еще слишком звери». Вы могли бы приложить его слова к сегодняшнему дню?
— Я не думаю, чтобы в Ветхом Завете люди были звери, хотя, конечно, в Новом Завете совершенно меняются некоторые подходы, некоторые параметры, некоторые общественные моменты и явления. Но действительно, XX век — именно в цивилизованном мире, что было бы менее удивительно в нецивилизованном мире — дошел до звероподобия. Даже немножко обидно за зверей, потому что звери себя так не уничтожают, как уничтожала себя и других цивилизованная Европа — страна Баха и Канта и страна Рублева и Достоевского. Тут тайна, которую трудно до конца осознать и в которую трудно проникнуть.
Беседовал Виктор Котт