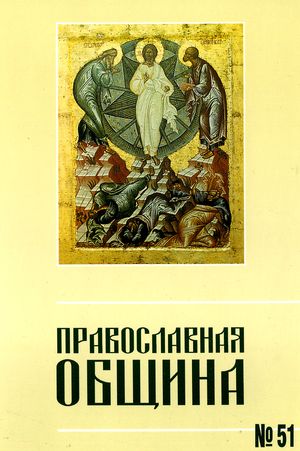«Из Церкви ничто не исключалось…». Беседа с Марией Струве-Ельчаниновой
– Мария Александровна, к сожалению, сохранилось очень мало свидетельств самого простого общения с матерью Марией. Расскажите, как на нее смотрели ваши детские глаза?
М.А.: Об этом рассказать трудно. Первый раз я ее видела в Ницце, она к нам пришла, это было до ее монашеского пострига. Она была ужасно неэлегантна, нарочно неэлегантна. У нее сапоги падали с ног, громадное пальто было ни на что не похоже, шапка — тоже не знаю, что она надела, на шапку не похоже. Тогда я уже обратила внимание, что она обладала невероятным «присутствием». Было ощущение, что в комнате просто уже места не хватает. Как вошла она в комнату — я до сих пор помню, — просто тесно стало.
А потом, когда мне было пять-шесть лет, мы с мамой жили у нее в горах, на юге. Она нанимала дом в маленькой старинной провансальской деревне. Там жила ее мать, дочь Гаяна, которую я очень хорошо помню, и сын Юра, ему было лет двенадцать. Там много народу жило. Внизу, как раз недалеко, жил Бунин, жил Фондаминский, у которого умирала жена от туберкулеза, и вообще разные люди. И в ее доме был всегда водоворот, как всегда кругом нее. Она, мне кажется, жила вся на людях.
Есть фотография, где Фондаминский, мать Мария, Юра, мама и я. Это было весной — я помню, миндаль цвел. Я ее в первый раз увидела в монашеской одежде, ее постригли как раз перед этим. И вот она приехала на месяц отдохнуть после пострига. Другая монахиня пошла бы куда-нибудь в монастырь. Но митрополит Евлогий благословил ее на монашество в миру. У нее совсем другой путь, чем у классических монахов.
Монашество в миру она понимала в самом широком смысле, я думаю — это и культура, и разговоры со всеми ее друзьями, среди которых было много русской интеллигенции. Тоже природа — всегда гуляли, масса гуляний, а вечером делалась громадная миска винегрета — никогда не знали, сколько народа будет ужинать. Это было в первый год ее монашества. Они нанимали дом в Кабриссе (на юге Франции, над Грасом, немножко выше того места, где жил Бунин), всем семейством там жили, отдыхали. Мы туда к ним поехали жить — я болела.
И вот однажды, когда была дикая горная весенняя гроза, она, вместо того, чтобы дома сидеть, пить чай и разговаривать, потащила мою маму гулять. Они ушли на всю ночь.
— Зачем?
М.А.: В грозе гулять! Потому что она не могла сидеть спокойно. Ей нужны были какие-то бури или сто нищих, или ей надо было не спать несколько ночей подряд. Ей всегда надо было что-то такое. Ее мама с удовольствием осталась дома, а Юра лежал в своей кровати под подушкой — я видела это — и дрожал от страха. Моя мать была не совсем довольна такой прогулкой, но они были очень дружны и ушли, вернулись утром, с карманами, полными воды.
— Ваш отец, о. Александр Ельчанинов, был с ней очень близок?
М.А.: Мой отец был близок Студенческому Христианскому Движению. К нему в Ниццу приезжали «движенцы»: Л. Зандер, В. Ильин, о. Сергий Булгаков. Вот и она, когда приехала в Ниццу, то сразу к нам пришла. Потом отец переехал в Париж, и они переписывались. Вскоре отец заболел тяжелой смертельной болезнью, мать Мария за ним ухаживала, но через шесть месяцев он умер. Мы приехали в Париж, мне было тогда уже лет девять, и до того, как ее арестовали, мы стали очень много видеться. Мы жили недалеко от «Православного дела», и так как очень бедствовали, то ходили туда за супом и там ели. И потом мы тоже ходили в ее приход, где были у нас друзья, Фондаминские и другие. И вот тут мы увидели, какую она вела подвижническую жизнь, и при этом веселую.
В своей церкви она нарисовала замечательные стекла — житие Марии Египетской. Церковь была в маленьком гараже. Я помню, во время службы я часто рассматривала эти стекла очень внимательно. Наверное, таких маленьких квадратных стекол было восемь. Но потом это всё было разрушено. Она вышила херувимов на боковых дверях, также иконы писала. Моя сестра долго жила у нее, они ходили ночью, в четыре часа, на городской базар с тележкой, пешком, это было далеко. Им давали остатки. Она — я помню, это типичная ее поза — в кухне, которая выходила на двор, стоит босая перед печкой, не знаю, чем топилась печка (тоже какой-то мастодонт старомодный, наверное, кто-то подарил), и в громадной кастрюле варит суп. Потом приходят человек двадцать-тридцать есть. Она все делала в этом доме. И дом был полон, полон всякими несчастными. Там, в частности, была одна мамина подруга, у нее была глубокая депрессия: ее муж бросил, два мальчика, они все жили в одной комнате. Какие-то пьяницы жили… Она совершенно никого не воспитывала и никого не осуждала. Она их просто кормила. Она говорила: «Я хочу, чтобы меня нищие растоптали, просто сапогами растоптали». Тогда была ужасная безработица, она варила на всех какие-то каши и супы. Денег не было, но она даром получала овощи.
— Вы сказали, что она не хотела их воспитывать…
М.А.: Может, она их и воспитывала, я просто этого не видела, хотя я там много проводила времени. Она жила очень бурной своей жизнью — друзья, стихи. Я не видела, чтобы она настаивала, что кто-то должен молиться, у меня нет чувства, что эти несчастные ходили в церковь. Не ходили в церковь, а их кормили. Они были несчастные, и поэтому мать Мария просто перед ними стлалась, по Евангелию. Кроме того, она все любила. Она любила ходить босая по земле. Я помню, как она вышла из церкви, как она ногами послала сапоги в другой конец двора и стала ходить шевеля пальцами и говорить: «Как приятно». У нее масса была юмора. Кругом неё было веселье, что-то такое огненное. Кругом нее было жарко. Масса жизни было, друзья — Мочульский, Фондаминский, Федотов и одновременно какие-то одинокие, которые погибали.
Н.А. Струве: А жила она совсем убого?
М.А.: Вначале, идя в церковь, мы заходили в ее комнату, она читала нам свои стихи. Это была большая, очень хорошая комната. Но она очень быстро с нее съехала, когда дом стал наполняться.
— Это была ночлежка?
М.А.: Нет, не ночлежка. Она брала только русских, и они там жили — не то, чтобы один приходил, а другой уходил, а как общежитие. Потом она жила прямо под лестницей (это даже не комната), двери не было. Это был какой-то старый барский дом: лестница поднималась, и рядом был просто четырехугольник открытый, и там стояла ее койка. И вот, когда у нее было свободное время, у нее там всегда кто-то сидел. Я помню, Мочульский сидел.
Она не была красивая. Что у нее было красивого — и она это даже очень хорошо знала — это замечательно красивые ноги. И моя мама ехидничала, что она любит публично мыть ноги. Я пришла с письмом от мамы к ней, она сидела, у нее был тазик с водой, наверное теплой, и она ноги свои мыла, а рядом сидел Мочульский, и они на всякие высокие темы разговаривали, читали стихи. Конечно, кое-кого это шокировало.
Но митрополит Евлогий ей доверял во всем, разрешал ей проповедовать. И никогда никакой критики, вот что удивительно. Каждый шел своим путем, и все процветали. Я митрополита Евлогия тоже хорошо знала. При нем процветали все. Он защищал о. Сергия Булгакова. И он мать Марию пустил по свободному ее монашескому пути. Он же и монастырю Бюсси (тогда еще не Бюсси) покровительствовал, в котором было традиционное монашество, и Движению.
— В чем было расхождение у матери Марии с Движением?
М.А.: Она вообще была «движенка» по природе. Движение — это одновременно культура, свобода и Церковь, да и шире — и мир, и природа: ничто из Церкви не исключалось. Знаете, если Вы движенцем делаетесь, то на всю жизнь, в большинстве случаев. Она была движенка, но вот ее измерение — помощь; христианство — направлено на бедных, нищих, на больных. Движенцы очень любили церковь, любили богословие, любили культуру. Они не то что не любили нищих, но они ими не занимались.
— Чем «Православное дело» от Движения отличалось?
М.А.: Она от Движения ездила по провинции, в сумасшедшие дома, тюрьмы, находила русских, несчастных всяких, с ними говорила. Она ездила в летние лагеря, занималась, разговаривала с молодежью. Ей не хватало в Движении вот такой отдачи себя людям. Движение было несколько умственное в это время. Но идейных расхождений не было.
Н.А.: Возврат в церковь интеллигенции — вот что было.
М.А.: Движение так жило: в нем было много людей, но каждый, кто имел что-то в жизни сделать, из Движения уходил и создавал свое. Многие так ушли. Движение было рассадником церковных талантов. Оттуда ушли очень разные люди. Вначале было горение. И после войны было горение.
— Если вспомнить детский взгляд, трудно или легко было с ней общаться? Как она себя с детьми вела?
М.А.: Никак. Я не помню, чтобы она со мной разговаривала, пока я немножко не подросла, лет до тринадцати-четырнадцати. Мне уже больше было, когда она узнала, что я собираюсь рисовать, поступить в рисовальную школу. Она сидела, маму ждала и со мной разговаривала. А моя сестра была старше, она у нее жила. Она помнит, что она много с ней общалась, что-то они вместе делали, вышивали. Дочка о. Димитрия Клепинина единственный раз ее помнит: она сидела под лестницей, вышивала. Это мать Мария очень любила. Даже разговаривая, она вышивала. Я думаю, что она не могла сосредоточиться на ребенке каком-нибудь. Ей нужны были другие масштабы, чтобы было интересно. Или вот церковь. Я помню, что на нее много смотрела, но не помню, чтобы мы разговаривали.
— А почему на нее смотрели?
М.А.: На нее нельзя было не смотреть. Она как-то занимала всё место в комнате, вообще только она и была. Я несколько таких людей знала, как она. О. Сергий Булгаков, например, но он иначе совсем. Он как раз наоборот, с детьми разговаривал.
Первый раз, когда я его увидела, он сидел у нас на чемоданах, отец был болен, мы приехали в Париж. Мы вошли в комнату: «А, есть глаза, есть глаза». Потому что, когда я была маленькая, была очень толстая, у меня глаза-щелочки были. И потом я у него исповедовалась несколько лет. О. Сергий всегда разговаривал. Он как раз смотрел на людей.
У меня впечатление, что мать Мария была в каком-то вихре всегда. Не спокойная. На меня она производила такое впечатление, что кругом нее всегда люди. А о. Сергий был внимательный человек, очень глубокий. Я не говорю, что мать Мария была неглубокая, но она была всегда в действии, она была человек действия. И вот для нее главное — это умереть ради бедных, поэтому она и ушла из Движения. Ведь это не всякий может применить Евангелие действительно так. К сожалению, мы неспособны на это.
— А кто еще, кроме Булгакова?
М.А.: Мой отец такой был. Он был тихий и спокойный, и тем не менее, всегда был в центре.
Н.А.: Александр Исаевич…
М.А.: Да, Александр Исаевич Солженицын тоже такой. Есть такие люди, вы на них смотрите и вам даже не хочется с ними говорить — вам достаточно, что они тут. Мы знали очень много замечательных людей.
Н.А.: А мне трудно выделить… Но отчасти, мой дед Петр Бернгардович, конечно. Но самое сильное впечатление — это Ахматова. Пожалуй, самое. Потому что это еще и чистое искусство. Ее умение молчать. Или умение расспрашивать совершенно негодного собеседника, т.е. разговаривать. Это не так часто бывает. Она говорила: «Сами говорят — ничего не слушают». Она — слушала. Такое качество молчания.
М.А.: Это не мешает слушанию. Есть люди, присутствие которых очень сильно, даже если они молчат.
Н.А.: Иногда сила присутствия измеряется молчанием. У Ахматовой самое сильное присутствие — в молчании.
М.А.: Может, нам с тобой помолчать?
Н.А.: Знаешь, я первый раз слушаю твои рассказы за 50 лет совместной жизни.
М.А.: О. Сергия мы все очень любили. Он был совершенно удивительный человек. Такое внимание к каждому! Кроме того, он был действительно огненный человек.
— Что для Вас было самое главное в о. Сергии?
М.А.: Его святость. В первый раз я его увидела, когда мы приехали в Париж, мне было девять лет. Т.е., меня он видел и раньше, но я его совсем в детстве не помню. А тут он сидел на чемоданах. И он сразу стал шутливо говорить, он так весь рассиял в улыбке. Но у меня такое чувство, знаете, детское чувство — костра. Буквально, действительно буквально. Всегда у меня было по отношению к нему это чувство — человека абсолютно горящего. Вот никогда не было чувства с ним, что он отдыхает или что он сонливый, или что он ест. Вот сколько я с ним ела в одной комнате, но мне всегда казалось, что где-то его жизнь шла огненная.
— Сердечный?
Н.А.: Выше. Огненный.
М.А.: Он весь был огненный. И умирая, он прославился. Это записано. Он, действительно, просиял на смертном одре, уже без сознания.
Н.А.: Он это предвидел и ждал всю свою жизнь — на грани смерти будет Преображение. И он преобразился.
М.А.: Это было дерзновение с его стороны.
Н.А.: Четыре свидетеля было.
М.А.: Мне рассказывала сестра Иоанна (Рейтлингер) лично. Вот еще человек, который на меня произвел впечатление, — сестра Иоанна. Она жила при семье о. Сергия, занималась его семьей, писала иконы. Она меня научила иконописи. Нам, конечно, очень повезло. В те времена было столько замечательных людей.
Н.А.: А у меня от единственной встречи с о. Сергием Булгаковым впечатление суровости.
М.А.: А он мог быть очень суровым. Когда я ему на исповеди сказала, что редко читаю Евангелие, он очень сурово сказал: «В чём Ваше христианство, в чём дело вообще?» А потом у него были все жесты такие. Он один раз разбил мне губу в кровь, давая руку поцеловать (смеется). Буквально в кровь, потекла кровь.
Н.А.: Я, помню, однажды в церкви, войдя, он протянул мне руку, и я ему пожал руку — был совершенно внецерковным — это было на похоронах не то моей бабушки, не то моего деда. Он сказал очень сурово, что меня плохо воспитывают. В церковном смысле меня не воспитывали совсем. Я помню до сих пор суровость взгляда.
М.А.: А я помню его сияющим. У нас висит фотография, от Льва Александровича Зандера, где у него невероятно сияющее, радостное лицо. Я его таким помню. Может быть, потому, что он нас с детства знал, он как бы заменял нам отца.
Беседовал Виктор Котт