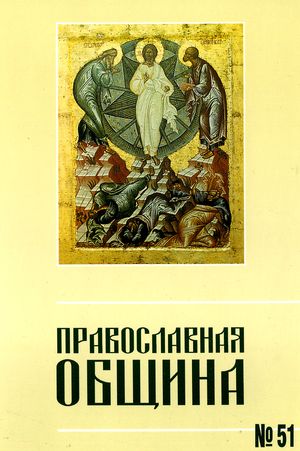«Вся моя жизнь открыта перед вами…»
Друзья мои, сегодня слово мое будет особого содержания. Вы уж меня заранее простите. Может быть, вам… тошно будет слушать. Я не собирался сегодня приезжать сюда, но в субботу меня посетил наш о. К. и сказал, что в храме анархия, что в храме беспорядок полный, подписи какие-то, и просил меня, чтобы я приехал сюда для того, чтобы все поставить на свое место. Когда я приехал, то не нашел никакой особенной ни анархии, ни беспорядка, ничего такого я не нашел, и поэтому мне водворять порядок здесь не приходится.
Но задается вопрос: «Почему же я не приезжал?» На этот вопрос трудно ответить, но ответить следует.
Конечно, не приезжал я не потому, что лежал больной и был беспомощным. Здоровье мое, конечно, не такое, чтобы я мог где-нибудь в гонках участвовать или какие-нибудь пудовые гири поднимать. Все-таки пережившему обширный инфаркт, а потом два микроинфаркта и инсульт здоровым быть нельзя, но мне крупные специалисты сказали, что другого такого больного в Москве нет, как я: который перенес то, что я перенес, и при этом способен к тому, к чему я способен. Поэтому на болезнь свою я ссылаться не могу. Да, я всегда болен, и вы всегда должны помнить, что в моем положении все легко может быть.
Если еще прибавить к этому ужасающую, я бы сказал, бессонницу… Дорогие мои, эта бессонница меня мучает 25 лет. Об этом мне даже трудно говорить. Меня вынуждает обстановка как бы даже хвастаться собой. Чего другого, а хвастать собой у меня нет никакого желания. На уколах таких очень сильно действующих снотворных — как мое сердце выдерживает? Это чудо.
Итак, значит, я не был больным. Тогда почему же все-таки я не приезжал сюда? Один очень близкий для меня человек, можно сказать человек, который в известном смысле обязан мне, может быть, даже своей жизнью, сказал: «А что ему приезжать? У него миллион». Если бы это сказал просто кто-нибудь, но это сказал человек — сын мой, которого я выносил на своей груди! Тогда я решил приехать и с вами побеседовать.
Многие из вас знают меня во всей моей жизни. Вся моя жизнь открыта перед вами. Вы ведь прекрасно знаете, что я был пять лет в соборе и жил в самом собореИмеется в виду Елоховский Богоявленский патриарший собор. — Прим. ред..
Как войдете в собор, на правой стороне будет отгорожена такая, ну, что ли комната. Она разделена на две части. В одной части уборщицы раздевались, а в другой части я жил. Там была громадная батарея, рассчитанная на то, чтобы давать тепло на весь храм. Эту батарею никто не уменьшил, даже отключателя там не сделали. На другой стороне — там все было устроено так, как нужно, потому что там была такая особа, которая была слишком близка к тому человеку, который тогда был во главе храма. А тут никого не было и ничего не было. Как затопят — дышать нечем, как прекратят топку — мерзнешь.
Вы меня простите, мне приходится уже как бы хвастаться перед вами, но давайте уж до конца поговорим сегодня о том, о чем нам необходимо поговорить. Так вот, дорогие мои, а улица, вы знаете, там очень шумная, ночью там грузовики шли и стук был невозможный. А окно выходило как раз вот на эту улицу.
Там я служил пять лет. Мог ли я жить где-нибудь в другом месте? Конечно, нет. Меня многие приглашали, просили, чтобы я у них ночевал. Прекрасные люди — прекрасные, заслуживающие полного доверия. Но я оставался в храме. Утром и вечером. Служил утром, служил вечером, и опять служил утром. Один день в неделю я был свободен, когда я уезжал на дачу. Вот так я там и жил.
Простите за то, что я это говорю, но фактически собор был на мне. Не на настоятеле, не на протопресвитере Николае, весь собор был на мне. Там по две литургии в день. На ранней я помогал, позднюю служил. Вечером акафисты. Вы же знаете, что там был акафист, и сейчас идет акафист иконе Божией Матери «Взыскание погибших», — я всегда его служил. В среду был акафист святителю Николаю — я его тоже служил с ними. В пятницу бывали акафисты иконе Казанской Божией Матери. Иногда и на ранней литургии тоже служил…
Спросят: а почему ты служил, почему ты так мучился? Да потому, что Господь меня привел на такое место, я и должен был отдать все свои силы. Нужно было бы умереть — я бы умер там. Что я мог сделать? Я там служил!
Но и тогда уже обнаружилось мое полное несогласие с управлением нашей церкви. Какое оно — я вам разъясню.
Но пришлось мне оттуда перейти в церковь около Курского вокзала — Покровскую церковь. Там я тоже пять лет служил и там я тоже жил при храме. А как я жил при храме — Матреша у нас здесь есть, она вам может рассказать, потому что она сопутствует мне. Покойница мать Ефимия была и Матреша — вот они знают, как я там жил.
Первые годы я жил там, как вам сказать (показывает): вот котел, который отопляет храм, здесь уголь. А две ступеньки выше — маленькая, не комнатка, и даже не чулан какой-нибудь, а просто, ну, закуток, я даже не знаю, для какой цели он был. Там не было ни отопления, ни вентиляции, там не было ни света — там ничего не было, кроме сырости. Вот Царство Небесное этой дорогой матушке Ефимии: она ближе к концу всенощной выходила, зажигала там керосинки или что-то такое, высушивала одеяльце, которое там лежало, даже не то, что высушивала, а чтобы оно хоть потеплее было… Вот так я там и жил. И там я жил пять лет. Правда, потом мне удалось построить двухэтажную пристройку. Наверху была крестильня, а внизу — помещение…
Мне скажут: почему же ты не мог жить у кого-нибудь? — Не мог жить, потому что дух мой другой! Я в мирской обстановке жить не могу. Хотя я и никуда не годный монах, но дух мой, он требует особых условий. Вот так я и жил.
Потом меня оттуда перебросили в совершенно утопавший приход — в Богородском. Там беззаконие — полнейшее, разорение — ужасное. И вот когда там — такой есть прот. Аркадий Тыщик, он сейчас настоятель во Всехсвятском у Сокола, — вот когда он там натворил бед и когда там вспыхнул пожар, то меня направили туда, чтобы я угашал это безобразие.
И опять я там жил. Жил в комнатке, где было делопроизводство, что ли. Здесь, знаете ли (показывает), проходила трамвайная линия, а мое окно как раз было здесь. А трамваи очень поздно приходят. Там я и изучил, когда приходят трамваи в парк, — до этого я никак не понимал, а тут я очень хорошо изучил, что они приходят очень поздно, и когда поворачивают на углу, то скрип они такой делают… Я никогда не знал об этом скрипе, а тут я узнал, потому что только закроешь глаза, а тут вот он идет… А утром… А утром они уезжают рано. Вы не думайте, что они в 8 часов уезжают. Нет, они очень рано уезжают. И снова проходят мимо. И снова покоя нет.
В Богородской церкви был приход, разоренный полностью. Все в пожаре, все в огне. Два года мне дали послужить. Но с Божией помощью за эти два года было сделано там столько, сколько не было сделано за все время в этой Богородской церкви. Между прочим, когда спросили еще в Покровской церкви: «Откуда у вас деньги?» (пристройку там сделали и еще специальное помещение для уборщиц), они сказали: «Нам отец Сергий дал». А что значит «отец Сергий дал»? Отец Сергий пришел и начал молиться. А людям ничего не нужно, кроме молитвы. Вот и пришли они на эту молитву, молящихся стало больше, и даяние больше. Вот и была возможность делать это. То же самое в Богородской церкви.
Эх, не буду я вам обо всем этом говорить так, как мог бы сказать. Ведь я и сейчас почему говорю? Потому, что пришел час.
После этого я на два года был отстранен, два года я не служил. Патриарх Алексий, покойный, сказал мне, что он очень хотел, чтобы я с ним всегда сослужил, потому что он ко мне очень хорошо относился, но и он беспомощен был что-нибудь сделать. Я к нему не ходил и ни разу с ним не служил. В патриархию я не ходил и с ним не виделся.
Почему я не служил с ним литургию? Потому только, что литургия — это величайшее таинство. Литургия — это все. И ее служить можно только в одном случае: если сердце в полной тишине, если любовь, если человек как бы забывает себя и весь уходит в то таинство, которое совершает. А как бы я мог стоять у престола, как бы я мог говорить тому же Колчицкому: «Христос посреди нас», а он бы отвечал: «И есть, и будет»? Как бы я мог это говорить, когда я же вижу, что получилось-то Бог знает что — разбой же!
Ну хорошо, я не имел ни зла на него, и ничего решительно не имел. Я даже незадолго перед его смертьюО. Николая Колчицкого. написал письмо патриарху Алексию, чтобы он, наконец, ну, примирил меня с ним. Потому что так же нельзя жить. Ну, почему-то здесь замедлили, прошел месяц — его разбил паралич, так все и окончилось.
У патриарха Алексия были разные намерения в отношении меня. Но я особого склада человек. Он это знал. И вот дали мне Медведково.
Ну, Медведково, дорогие мои, такой храм был, вам об этом говорить не приходится, он был полностью разорен. Я здесь не нашел ни одного места, где чувствовалась не то чтобы любовь, а просто приличие. Здесь все было осквернено. Вот и начал тут.
Служил я здесь один. И жил здесь при храме, и служил один. И служб было почти не меньше, чем теперь, ну, чуть меньше. Но я один служил, без дьякона. Бывало, служишь панихиду — полхрама остается, служишь молебен — полхрама остается, пока не кончишь все… Так я здесь служил.
Спрашивается, если человек сказал, что у меня миллионные средства, то мог бы я что-то такое себе приобрести? Ничего не приобрел, ничего не сделал, а жил так, как придется.
Была и есть у меня дача. Ну, какая дача? Я жил у Красных ворот, но в 1938 году место, где стоял мой дом, понадобилось людям высоким, и они выселили из Москвы всех, живущих в этом доме. Дали по 250 рублей (по теперешним деньгам, а раньше это было 2500 рублей) каждому: выезжай за город — и всё. Это теперь вас милуют, дают вам квартиры. А тогда время было такое: невзирая на то, кто там, что такое, — уезжайте. Вот тогда, получив эти деньги, взяв ссуду в банке 1000 рублей, по нашим деньгам теперешним (10 000 рублей раньше), ну, кое-как, значит, построились.
Трудно было? Очень трудно было. Роптал я на Господа? Никогда. Никакой капли ропота не было! Слава Богу за все! Так я и жил. Так я и дальше жил.
А сейчас и квартира есть здесь. Дорогие мои, в 66 лет я получил здесь 8-метровую комнату. В 75 лет я получил 16-метровую комнату. И скажу вам по совести — иногда сижу я в этой комнате и думаю: «Ой, Господи, а лучше, пожалуй, отсюда уехать! Ведь сколько есть людей, которые находятся в очень тяжелых условиях, а я живу, как барин». И мне бывает стыдно, горестно бывает — как же я так живу? А если к этому прибавить, дорогие мои, что вся моя семья жила очень скромно — я в своей жизни рюмки водки не выпил, дорогие мои, я в своей жизни ни разу в ресторан не приходил, я в своей жизни никогда на курорте не был, и все мои так же жили, вся моя семья.
Спрашивается, могут ли быть у меня какие-нибудь деньги? Ну что я вам буду говорить, конечно, есть сбережения. Да как же иначе, если, в конце-то концов, все работают, все стараются, все трудятся, не мотают, ничего нет, одеваются скромно?
Вот вчера приехал я сюда с дачи. Со мной ехал очень близкий, дорогой для меня человек. «Пойдем, — говорю, — зайдем, выпьем стакан чаю. Чем-нибудь нас угостят». Поднялись мы с ним. «Ну, — говорю, — друзья (там встретили нас мои дочкиСестры из общины о. Сергия. — Прим. ред.), ну как, что, чем нас угостите?» — «Ну, чем? Гречневая каша есть». Ну и спасибо. Сели мы все за стол и этой гречневой каши поели.
Так вот всю жизнь: был недостаток — славу Богу, был достаток — слава Богу, была теснота — слава Богу! Так всегда во всем.
Так вот: тот, кто сказал, что у меня миллион, он недостойный клеветник. И боюсь, что ему придется за это отвечать перед Богом…
Так вот, дорогие мои, значит я не потому жил тамЗа городом., что мне просто вольно было полежать, погулять — почему не жить? Не поэтому. А почему? Потому что мне было очень трудно сюда ехать. Внутренне, духовно трудно ехать.
Дело в следующем. У меня с патриархией есть разномыслие. И глубокое разномыслие. Оно идет… с каких же лет? Ну, я думаю, что не ошибусь, — с тех пор, когда мне еще было десять лет. Вот так, с десятилетнего возраста у меня уже было с ней разномыслие. В чем же оно заключалось? А вот в чем. У нас был законоучитель. И он ужасный был такой… Ему можно было бы не Закон Божий, а атеизм вести, потому что своей жизнью (Цыпляковский его фамилия, Царство ему Небесное) он сам отвращал от Закона Божьего. Мы знали, что он однажды последнюю овцу взял за одну из треб — за похороны. Ну, знаете ли, детская душа — она все понимает. Она больше понимает, чем пожилой человек. Потому что сердце чистое сразу же внутрь воспринимает все это и глубоко-глубоко впитывает в себя.
Когда я окончил реальное училище (а там Закон Божий формально преподавали очень серьезно, я думаю, что едва ли сейчас в семинарии он преподается так, как там), то поступил в институт. Время было такое трудное, голодное. Я вернулся туда, где мои родители жили, и стал я работать.
Поступил работать в Кооперативный союз. Я поступил практикантом и очень быстро стал инструктором. Прошло некоторое время — стал заведующим инструкторским отделом. А это было еще тогда, когда кооперация не была национализирована. По каждому уезду был инструктор. В частности, в одном уезде был приехавший из Москвы высокоинтеллигентный человек, сын очень такого маститого философа, то есть, вернее, не сын, а племянник, очень интеллигентный. А в этом уезде, в этом городе председателем кооперативного товарищества был прот. Борисов, и он там безобразничал. Безобразничал он, значит, надо ревизию делать. А тот инструктор, который там был, он такой слишком уж хороший, что ли, был. А нужно было с этим господином как-то немножко построже поступить. Меня командировали, чтобы я производил вместе с тем инструктором ревизию.
Когда ревизию мы сделали, то увидели, что там очень много мошенничества. Мне было тогда двадцать—двадцать один год. А я егоПротоиерея Борисова. знал раньше, когда учился в этом городе. Я говорю: «Соберите собрание уполномоченных». Ну, он не мог отказаться, собрал. Я доложил. Но он — конечно, я-то был двадцатилетний, что я мог сделать, а он был такой жулик прожженый — он собрал тех, кого он хотел, и в результате, когда я поставил вопрос о том, чтобы сменить председателя, то большинства не нашлось. Я так и уехал.
Но я опять видел лицом к лицу человека, который был в сане протоиерея, был настоятелем храма, и я видел, что этот священник — не священник, а разбойник. Опять-таки хороший урок. И когда я уже пришел сюда и вошел в собор, то первые дни в соборе я не знал, куда мне бежать, куда я попал, потому что я видел, что творится в алтаре собора.
Вот тогда я и узнал: есть священнослужители — и это величайшая честь, и есть — попы. И вот у меня борьба началась. За священство. За то, чтобы у престола Божьего были достойнейшие люди — не такие, как я, а в белых одеждах. Не в таких лохмотьях, как я, а люди со светлой совестью. Вот за это я боролся. Это было тяжело принять, но все равно для меня было ясно, что да, только по этой линии можно идти.
Вот так, дорогие мои. Так я и жил. Сюда пришел. Много времени, много сил, много всего пережил я здесь. Потому что скверные люди есть всюду. Много мне здесь пришлось преодолеть тяжелых переживаний. Ведь за моей спиной никого не было. В патриархию я не мог пойти за помощью — там только и ждали, чтобы меня лишний раз хлыстнуть. Но они также знали и то, что как они ни хлыстали меня, а со мной ничего нельзя сделать. Я стоял, с Божьей помощью, и выстоял. Они все уже сошли с лица земли, а я вот даже и сейчас перед вами стою и исповедую.
У меня нет с ними расхождений в вере. Я — более православный человек, чем они. У меня нет с ними никакого расхождения в вопросе о Церкви. Я — сын Церкви, я люблю Церковь больше, чем они. Но поповство я ненавижу.
Беда наша в том, что церковь сейчас почти не имеет созидательного значения в жизни. Она не созидает… Нельзя же на одном только величии, на одном только пышном богослужении прожить… Нужна жизнь духовная. «Врата адовы не могут одолеть Церкви». Нужно спуститься, как я вам говорил, умалиться (Мф 18: 4), нужно со всеми быть вместеДля всех был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых
(1 Кор 9: 22)., слушать всех, покрывать любовью своей все немощи — для того, чтобы подняться и понести крест свой дальше.
Ну хорошо. Но все-таки они меня оставили в покое. Так я и жил. Они знали, что меня лучше не беспокоить, потому что всякий раз, когда меня беспокоили, они получали соответствующий от меня ответ.
А тут вдруг случилась такая вещь. Прислали из патриархии, как будто бы по благословению патриарха или по его указанию, одно уличное, скверное анонимное письмо — на отзыв. Это было так: я приехал служить на Троицу литургию, и утром почтальон мне передает это письмо. Когда я его вскрыл, я был полон возмущения. Не на то, что кто-то это написал, — о них даже недостойно говорить вслух. Я был глубочайшим образом возмущен: как в патриархии осмелились это сделать? Как им не стыдно там? 77-й год мне. Так неужели же мне посылать такие уличные письма? Ну, конечно, дорогие мои, я не оставил его без должного ответа.
Но все-таки о письме. Кто же писал это письмо? Какие люди? Как вам сказать? Какая-то слякоть. Даже трудно себе представить. Потому что настолько гадкое письмо, настолько скверное письмо, что даже не знаю, как их лучше определить… Между прочим, когда я с о. К. об этом говорил, он меня убеждал в том, что это не здесь, что это другие какие-то люди, словом, это не отсюда. Хорошо. Я не позволю себе сказать, что о. К. это сделал, избави Бог! Конечно, в таком глупом письме принимать участие он не мог. Но все-таки это отсюда зло. Я думаю, как же это могло быть? Я здесь пятнадцать лет. Как можно было написать такое письмо?
Письмо безграмотное, клеветническое, лживое, гадкое, гадкое письмо. Кто же это такие люди? Я хотел их хорошо определить, так чтобы им было памятно и на будущее время, и я решил, что лучшее определение — церковные крысы. А почему «церковные крысы»? Я вам скажу. Когда я в соборе жил, в той комнате, там проходило отопление, а трубы проходили через стены, и в стенах — отверстия. И в эти отверстия, помимо всех прочих вещей, которыми я там наслаждался, еще бегали крысы. Ну, церковные крысы, Господи Боже мой, — они у меня хлеб поедят, там еще что-нибудь… Я относился к этому благодушно, потому что им надо все-таки как-то тоже жить. Так ведь? А в церкви ведь много не найдешь. Они бегают, бегают там и голодные куда-то бегут дальше. Так что я к ним относился мирно.
Но есть церковные крысы другого сорта: они — Тело Христово, они Божие дело портят. Вот поэтому я и решил, что надо мне отойти в сторону. Надо мне отойти в сторону, потому что у меня нет сил. Будь бы пятнадцать—двадцать лет назад… Господи, что я пережил тогда! Но сейчас у меня мало сил, у меня крошка сил. И может быть, те, которые говорят, что у меня деньги большие, они, вероятно, думают, что я там на даче гуляю по лесу. — Ни одного раза не вышел я в лес, хотя лес от нас всего-то пять минут. Ни разу! Я там много работал. И работал, опять-таки, для вас. Когда-нибудь придет час, и вы узнаете об этой работе. Но это работа — работа. Ночи бессонные, потому что те же мысли постоянно меня тревожат…
И вдруг такая гадость, такая слякоть! Я и поставил вопрос: для чего же я здесь нахожусь? Неужели для того, чтобы последние силы моего сердца иссякли совсем? «Больше, — сказал я себе, — не поеду туда», и перестал ездить. Но когда о. К. приехал и сказал мне, что здесь анархия, тогда я решил ехать и рассказать вам все так, как есть.
Теперь в отношении вопроса с о. К. С о. К. у нас самые милейшие отношения личного порядка. Восемь лет мы с ним послужили. За восемь лет он от меня не слышал ни одного неприязненного слова. Но сейчас началось такое дело. Сейчас, дорогие мои, опять-таки, я говорю, что маленький остаток сил, который у меня имеется, его нужно израсходовать наилучшим образом. Ведь не на церковных же крыс мне расходовать эти силы! Ведь они дома у себя все портят, в семьях у них Бог знает что, на работе они отвратительны — везде, где они только ни коснутся, от них все вянет. Так неужели же я буду с ними иметь какое-нибудь общение? Или допущу, чтобы они стояли около меня? Я вот пришел сейчас на клирос, на левый, посмотрел и кое-кого не увидел, и думаю: «Слава Богу, что я их не увидел».
Для чего же я буду здесь? Я могу здесь быть только для созидания. Какого созидания? — Преображения всей нашей храмовой жизни. Они в своем гадком письме отметили, что вот, наши ящики… — вроде того, что осудили то, что мы перешли на такую систему (без ящика вообще). Так вот — это только начало! Надо идти дальше, глубже. Нам нужно, чтобы этот храм был училищем духовной жизни, чтобы мы отсюда выходили и приходили домой и чтобы дома знали, что нужно делать. Ведь вы имейте в виду, что наши семьи — больные! Их ведь нужно успокоить, ибо то муж ведет себя Бог знает как, то дети ведут себя тоже Бог знает как. И семьи-то нет.
Что же, христиане, к чему мы призваны? Разве только к тому, чтобы пропеть какое-то соло здесь или простоять, прослушать что-нибудь и уйти? Мы для чего приходим сюда? Для того, чтобы напитаться. Мы, как пчелы, берем взятку, несем ее в ульи свои и заполняем ею соты. Тот — христианин, кто пришел домой, забыл о себе, отдал себя всего служению ближнему. Тот — христианин. Вот недавно одна женщина, которая работает уборщицей в больнице, — она видит, как часто больные остаются там беспризорными, как они там плохо ухожены. Ведь есть такие люди, которых отвозят в больницу, и — пропадай, значит, все. Так вот, она там остается, она там помогает, она старается ободрить людей. Вот это и есть подвиг христианский. Вот ради чего мы собираемся. Больше нам ничего не нужно. Ни богословствования, ни пения какого-нибудь особенного — ничего решительно. Только молитва, тишина и самоотвержение. Чем проще, чем теснее, — тем ближе ко Христу.
Так что если у меня остаются еще какие-нибудь силы небольшие, то, дорогие мои, я должен их израсходовать самым разумным образом. И вот здесь-то и возникло у меня разномыслие с о. К. До этого времени мне было не до него, не до этих разномыслий. Потому что другие задачи были. Слишком много было дел, которые меня отвлекали, нужно было все-таки многое еще сделать. А сейчас — вплотную до них.
Вот здесь жизнь наша, она уже является для меня главным оправданием моей жизни. Я работу веду особую и, кроме того, служение мое здесь. Но я здесь не доживать пришел. Доживать я могу и в инвалидном доме, если меня, конечно, пустят туда, или, вернее, отпустят туда. Вот. Я не доживать пришел. Я пришел жить, трудиться и до последнего вздоха побуждать вас к тому, чтобы подниматься в гору все больше и больше, забывая о себе. В чем? Простираясь куда? — В любовь, в служение ближним своим. Вот, дорогие мои, вот для чего я здесь могу остаться.
Но здесь мы с о. К. — разные люди. Он уже пожилой, сформировавшийся священник. У него свои понятия, и не мне его разубеждать. У него свои привычки, и не со мной ему от них отвыкать. У него все свое, и очень крепкое свое. Но это его — оно мне чуждо. Когда он ко мне приехал, мы имели с ним милейшую беседу, и я всегда с ним готов беседовать. Но совместно с ним трудиться в храме мне тяжело. Поэтому я и решил отойти в сторону. И все предоставить Господу — как Господь управит наши пути и, в частности, всю мою жизнь, так и будет.
Вот так, дорогие мои, я вам открыл свое сердце полностью. Простите меня за все и будем надеяться на то, что Господь нас вразумит и направит.
Да хранит вас Господь!
(Народ выражает горячую поддержку)