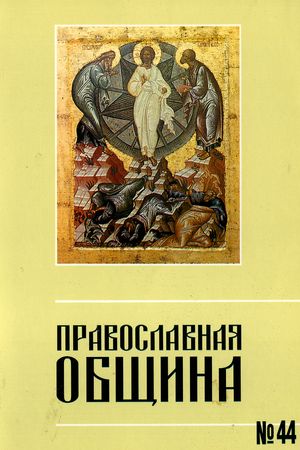Эсхатон в нашей жизни
По-гречески «первое» мы называем protologia, а «последнее» — eschatologia. Ни один из этих терминов невозможно перевести точно. Технический термин для обозначения второго — «эсхатология», то, что касается конца времен, последних вещей. Но protologia, мне кажется, не имеет даже технического термина для перевода. Это слово относится к тому, что находится в начале времени или даже до начала времени. Можно говорить в простых понятиях пролога или эпилога к книге, однако реальность нашей жизни — не книга, даже если эта книга — Библия.
Недавно был впервые осуществлен перевод на сербский язык знаменитого «Потерянного Рая» Мильтона. Я был на презентации этой книги, и хотя ничего не могу сказать о ее поэтических достоинствах, могу сказать нечто о богословском подходе Мильтона к самой проблеме. Начнем с того, что сравним его подход к этой теме — с одной стороны, и православного христианского Предания — с другой.
Мильтоновский подход — это подход протологический, он рассматривает Библию, делая акцент на начале времени, на творении и на его первоначальном состоянии, тогда как я предпочитаю рассматривать Библию эсхатологически, через призму конца времени и последнего состояния творения. Согласно Мильтону — если говорить на другом, более простом языке — нечто произошло в прошлом, и то, что произошло в прошлом, определяет то, что происходит до сих пор. Напротив, позиция православного богословия такова: что бы не случилось в прошлом, это, конечно, важно, но то, что должно произойти в будущем — гораздо важнее.
Когда мне приходится говорить об этом со студентами семинарии, где я преподаю, я пытаюсь объяснить это на примере из области, хорошо знакомой европейцам, а именно футбола. Позвольте мне и сейчас воспользоваться тем же приемом. Рассмотрим тактику игры Марадоны, Линекера или Стойковича. Соперник забивает мяч или два в первой половине игры, и это, конечно, в известной степени определит стиль игры их команд. Марадона, или кто-то подобный, пока еще не показывает на что способен. В какой-то момент, однако, он вдруг, с большим мастерством, забивает один или два гола и к концу первого тайма сравнивает счет. Люди думают: если Марадона мог двумя точными ударами вот так запросто выправить положение в первом тайме, что же будет, если он в полную силу заиграет во втором?
Библия — это игровое поле чудес и знамений Божиих, однако самое важное в Библии — не чудеса Божии, не творение, не спасение народа Израильского и т. д., но скорее ее обращенность к последним временам, к тому, что Бог, Который с такой легкостью уже соделал в истории столь великие дела, еще будет творить.
Таким образом, то, что Бог делал в начале, менее важно — так к этому подходит Библия — чем то, что Он будет делать в будущем, в конце времен. Прекраснейшая книга, Песнь Песней, это книга о двух возлюбленных, в которой возлюбленный уходит, но влечет свою возлюбленную за собой. Так и в наших отношениях с Богом, только мы еще в первой половине игры; Бог влечет нас за Собой к более глубокому общению.
Понимание времени
Теперь я хотел бы перейти к пониманию времени, как в античности, так и в библейском откровении. В целом античность — за исключением народа Израиля, получившего откровение, — смотрит на прошлое как на нечто лучшее, нежели настоящее, и как на фактор, решающий для будущего. Некогда существовал рай, который постепенно был испорчен: наше желание — вернуться в этот рай. Так, например, обстоит дело с Одиссеем. Он тоже хочет вернуться в свой потерянный рай, на свой остров, совсем в духе Мильтона. Кольцо замыкается, конец должен вернуться к началу.
Библейское понимание прямо противоположно. Наша ностальгия, в отличие от ностальгии Одиссея, похожей на ностальгию большинства людей, это тоска по будущему, по тому, что грядет. Она обращена не к прошлому, но к тому, что предстоит. Рай не позади, а впереди нас. Мы ищем Того, Кого Адам потерял в раю, и Его — во всей полноте Его славы — мы обретем в грядущем.
Вспомним блудного сына, который, покинув отчий дом и потерпев жалкую неудачу в жизни, однажды ощутил ностальгическую жажду возвращения в отчий дом. Когда он возвращался, его встретил отец, заранее вышедший из дома навстречу своему сыну. Я спрашиваю: что влекло сына назад — ностальгия по прошлому или сознание того, что отец выйдет ему навстречу? И то и другое может быть правдой. Но с библейской точки зрения наиболее значимо движение Отца навстречу блудному сыну. Именно это я подразумеваю под эсхатологическим отношением Православной Церкви.
Это отношение можно проиллюстрировать, посмотрев на православные иконы, где нет западной перспективы, уходящей вглубь картины. Наоборот, перспектива разворачивается от изображенного к созерцающему. Она была названа «обратной перспективой» православной иконописи, и художникам, окончившим школу изящных искусств, она несомненно кажется довольно наивной. Но важно понять, что здесь Бог и Его святые выходят нам навстречу, как будто Небеса уже присутствуют здесь, дабы обогатить нашу повседневную жизнь.
Античный взгляд, который мы уже обсуждали в связи с возвращением рая, основан на воспоминании событий прошлого. Православный подход в большой степени основывается на призывании Святого Духа, Который приходит к нам из будущего. Православное литургическое предание соединяет это воспоминание о прошлом — анамнезис, с эпиклезисом — призыванием Святого Духа. Воспоминание, прошлое и история не упраздняются, но обретают новое значение в эпиклезисе, который мы должны всегда понимать эсхатологически.
Резюмируя, можно сказать, что конец времени определяет начало, а не начало — конец. В Откровении это выражено в одной знаменитой фразе: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец
(Откр 21: 6). Св. Максим Исповедник в седьмом веке писал, что когда мы обдумываем план постройки дома, не первые эскизы определяют облик будущего дома. Наоборот, конечный образ дома, который сложился в замысле архитектора, определяет здесь начало, то есть первые эскизы.
Св. Максим утверждал, хотя я несколько упрощаю его изысканный философский язык, что тайна Воплощения Христа несет в себе силу для того, чтобы объяснить загадки Библии, и для того, чтобы объяснить и помочь нам понять творение. Тот, кто познал тайну Креста и Гроба, познает эту же тайну. Но тот, кто проник в мистическую силу Воскресения, поймет самый замысел Бога в Его творении и в откровении Библии.
Целостный опыт Откровения и Воплощения дал действительно сильный толчок идее исторического развития и процесса исторических изменений. До Библии и, в особенности, до Нового завета мы не имели такого чувства исторического времени или развития в истории. Древний и греческий миры в этом смысле боялись истории. Они боялись нового и неожиданного, принимая прошлое как стабильную определенность. Вот почему так важен был для них космос, гармоничная стабильность и совершенство мира, который изучали древние греки.
Великая индийская цивилизация также избегала исторического развития. Для Гаутамы Будды весь процесс становления есть нечто такое, от чего нужно уйти, и в этом уходе можно достичь нирваны. Есть ли нирвана бытие или небытие — не имеет большого значения. Имеет значение, что для Будды решающим было то, что мы покидаем исторический процесс, процесс становления.
Согласно Библии, история есть одно из великих благословений Божьих. Она есть следствие творения и наделяет смыслом жизнь и драму человека. И хотя Ветхий и Новый заветы дали импульс и вдохновили идею прогресса и творчества человека в истории, они не могли на этом остановиться. Вне эсхатологии история была бы просто последовательностью событий, не имеющих ни смысла, ни завершения. Значимость и важность истории не оспариваются, но мы не останавливаемся на понятии истории. Если бы навстречу блудному сыну, возвратившемуся домой, не вышел отец, возвращение не имело бы смысла.
Воплощение Христа в истории есть утверждение истории. Одновременно, однако, эсхатологическая реальность Воскресения освобождает нас от оков исторической событийности, которая всегда продолжает двигаться, всегда развивается. Вот почему св. Максим в уже цитированном отрывке утверждает, что именно Воскресение наделяет смыслом творение и именно в Воскресении обретает смысл само Воплощение.
Эсхатология в нашей повседневности — это вера в Воскресение, вера в вечность жизни. Под этим я не имею в виду вечную жизнь души или мира. Говоря языком Евангелия, это нечто гораздо большее, это anakephalaiosis (Воссоединение под главою (Христом) ( греч.), см. Еф 1: 10 . — Прим. ред.), жизнь для всех, жизнь в суммировании всей истории. Именно Святой Дух, сходя на Церковь и входя в нашу повседневную жизнь, сообщает нам это эсхатологическое чувство.
Святой Дух и мир грядущий
Как бы ни был велик художник, поэт или футболист типа Марадоны, как бы он или она не развили свои таланты, такие одаренные люди обычно сознают, что на последней глубине их творчества все решает вдохновение. Оно не есть прямое следствие одаренности или какой бы то ни было тренировки, или упражнения в развитии своих талантов. Всесторонний человеческий опыт говорит о том, что истинно великие произведения и истинно великие достижения суть результат вдохновения.
Это, конечно, не значит, что мы не должны иметь определенной подготовки или не должны развивать наши таланты. Это значит, что вдохновение, относящееся к эсхатону, к последним временам, есть нечто большее, чем все это. Это «нечто большее» в нашей повседневной жизни и есть присутствие Духа Святого.
Если мы служим Литургию и нет присутствия Духа Святого, тогда мы просто совершаем обряд. Даже столь важное событие как мученичество, подобное мученичеству св. Поликарпа Смирнского, если оно не благословлено Святым Духом, может иметь меньшее значение, чем страдания и смерть любого человека. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» монах Алеша говорит брату Димитрию (настоящему грешнику), что они очень схожи. Хотя Алеша — монах и на одну-две ступеньки кажется выше Димитрия, у них все-таки очень много общего. Разница между ними очень невелика.
Я считаю, что современная европейская цивилизация, столь прогрессивная и во многих отношениях столь поразительная, на самом деле недалеко ушла от нашей отсталой жизни на Балканах. Там, где отсутствует елей милости, где отсутствует соль веры, где отсутствуют дары и плоды Святого Духа, там, где не слышен «глас хлада тонка», который слышал пророк Илья, там все наши достижения ничего не стоят. Изначальные голод и жажда человеческого существования остаются неутоленными.
Даже если человек не грешит, если он не подвержен злу, он остается пленником бытия, пленником природы и, если угодно, всей вселенной — ибо это тоже природа, и без Святого Духа человек всегда будет оставаться пленником. Эсхатология свидетельствует, что человек больше не пленник ни круговращения времен, ни развития событий, поскольку Христос пришел к нам из-за границ времени, из эсхатона, для того, дабы разбить оковы времени и истории. Дух Святой постоянно держит открытыми врата в мир грядущий, в рай.
Христос в Своем Воплощении принес Царство Божие человеку, а в Своем Воскресении вознес человеческое тело до сидения одесную Бога. Это событие в истории, исторический факт, и в этом — величайшее утверждение человеческой истории. Но если бы Святой Дух как другой Утешитель не был послан к нам, дабы держать открытыми для нас Небеса, а также место одесную Отца, тогда событие вочеловечения Христа осталось бы в плену у истории, в ее анналах. Или, самое большее, исторический процесс стал бы вечным. Православный опыт осмысления конца времен, однако, не есть опыт бесконечной истории. Это была бы бесконечность одного и того же, истощание духа.
Один мой белградский знакомый, марксист, еще не ставший христианином, говорил мне: «Вы говорите о христианской мистике, и это очень напоминает кота, который греется на солнце и которому наскучила жизнь». Я ответил ему, что то, что он считает христианством, вовсе не христианство. На самом деле христианство — это радость игры, радость встречи, радость объятия. Это тот вкус любви, который, сколько бы радости ты не получил, оставляет тебя ненасытившимся. Ты никогда не чувствуешь насыщения, но чувствуешь, будто ты хочешь преодолеть свои физические ограничения. Своим эсхатологическим актом Бог освободил Самого Себя для нас, дабы мы не были заперты в Нем.
Опыт настоящей любви есть эсхатологический опыт. Опыт надежды, как опыт конца времени, также есть эсхатологический опыт. То же относится и к опыту ожидания, который свидетельствует, что человек есть не то, что он есть, но то, чем он будет. Человек по самой своей природе есть эсхатологическое существо. Если мы не принимаем этого, — а мы имеем такую привилегию как свободные создания — мы обрекаем человека на тюремное заключение, даже если границы этой тюрьмы безмерно широки, пусть даже это будут галактики, пусть это будет даже вечность. Любовь хочет, чтобы человек был свободен, был безграничен, чтобы он был существом эсхатологическим, обращенным к концу времен.
Два разных опыта разочарования в человеческой любви можно видеть у Достоевского и у Маркузе. Если любишь человека, говорит Достоевский, это захватывает все твое существо, но в то же время ты чувствуешь, что даже если любишь человека, но еще не можешь любить Бога, то не можешь достичь того, чего желаешь достичь. Любовь Божия открывает эсхатологическое измерение человеческой любви. Вот почему две любви — к Богу и к человеку — символически образуют крест. Две эти любви — к человеку и к Богу — не просто этические заповеди, они — онтологические основания человеческого существа, но также и крест для человека. Если мы уберем или вертикальную, или горизонтальную составляющую креста, то все, что нам останется — это бревно. Если мы отделяем любовь к человеку от любви к Богу, мы не найдем того эсхатологического измерения, в котором нуждается сама любовь, поскольку любовь к Богу действительно невозможна без любви к человеку.
У Герберта Маркузе — немецкого марксиста, жившего в Америке и пытавшегося соединить Маркса с Фрейдом — один из героев говорит в молитве: «О Боже, спаси меня от самого себя». То, что Христос стал человеком, означает, что Бог вышел из Самого Себя в порыве любви. Такой Бог экстатичен — слово «экстатичный» по-гречески буквально значит «вышедший из себя». Этот Бог, выходящий из Себя, экстатичный Бог, как говорит Дионисий Ареопагит, — Тот, Кто выходит из Себя навстречу нам, выходящим из себя навстречу Ему.
Вот почему я говорю, что любовь — это эсхатологический опыт, эсхатологический тип жизни. Когда я говорю о любви в этом смысле, я, однако, имею в виду любовь распятую. Вот почему для нас, христиан, любовь, эсхатологически переживаемая в повседневной жизни, есть крест.
Христианин должен быть беспокойным духом, революционным духом, человеком, постоянно живущим риском, порывом. Вот почему я говорю, что человек есть не только homo faber — человек умелый, или homo sapiens — человек разумный, но еще и homo ludens — человек играющий. Даже не homo religiosus — человек религиозный, о котором говорит Мирча Элиаде, а именно homo ludens, игрок — личность, одновременно дарующая любовь и ищущая ее: человек общения. В греческом языке слова «общение» и «общество» (Как и в русском, в отличие от английского. — Прим. пер.) очень схожи. Таким образом, человек общения должен быть существом социальным, взаимосвязанным с другими.
В строгом смысле слова, общение — это когда двое постоянно открыты друг другу, навсегда и бесконечно. Если мы считаем, что общение кончается и таким образом теряет свой эсхатологический смысл достижения конца времен, то это общение оказывается лишено своего основания, даже если оно и не полностью разрушено. Бог в Своем бытии есть вечное общение. Вот почему Троица означает единое общение Трех Любящих между Собой.
Сотворение мира для нас есть призыв войти в это общение. История есть движение, путешествие к этому концу. Если в нас есть эсхатологическое предвкушение истинного Бога, любящего нас, то мы можем его сохранить только в том случае, если мы любим наших ближних. Только тогда мы понимаем, что общение, или «общество» в смысле «общения», никогда не прекратится. Что среди всего, что есть под солнцем, единственно истинное новое — это общение в любви, никогда не перестающее, потому что исходит от конца, эсхатона, и оно есть Божье общение.
Парадоксальным образом из этого можно сделать вывод, что поскольку мы православные христиане, наши отношения с миром всегда трагичны. Это истинно в отношении современной ситуации, также как и в отношении прошлого. Наша история, даже когда она успешна, в этом мире всегда есть распятая история. Но христианское понимание распятой истории или трагедии отличается от древнегреческого. Без трагедии люди не могут выйти за пределы самих себя. Но Бог вступил в эту трагедию и был распят, и через это мы действительно вышли из трагедии. Трагедия Креста претворяется в Воскресение. Воскресение не отменяет реальность Креста, но распятие не обожествляется само по себе и никогда не сможет быть обожествлено, потому что оно — не конец, но врата в Воскресение, которое есть конец, реализующийся в истории, хотя истории и предоставлено еще идти своим чередом.
Это знание есть знание, данное нам Духом Святым. Вот почему христиане в своих ранних текстах, например в Учении двенадцати апостолов, говорят: «Да приидет Святой Дух, и да прейдет мир сей». Это не значит, что они против мира, но то, что они не собираются заключать себя в границы мира, даже если этот мир сотворен Господом. Я уязвлена твоей любовью
(В Синодальном переводе: Я изнемогаю от любви
(Песн 2: 5, 5: 8). — букв. Я болен от любви
, и в Септуагинте — Я ранен (букв. пробуравлен) любовью
. — Прим. ред,) — говорит возлюбленная в Песне Песней, и тот, кто уязвлен этой любовью — он или она — безутешен. Однако это бытие без утешения есть благословение.
Позвольте мне привести один пример. Когда я рос при коммунистической власти, коммунисты убеждали нас, что они строят удивительный мир, поистине Царство Божие на земле. Эти обещания, это видение мира волновали нас. К счастью, задолго до этого то же самое было с Достоевским. В действительности же первой жертвой коммунизма стал первый человек, Адам. Почему Адам попался в ловушку, когда сатана нашептал ему, что он может быть равным Богу? Потому что в определенном смысле человек действительно создан, чтобы быть равным Богу. Ложь дьявола и ложь коммунизма звучала убедительно, потому что они затрагивали какие-то истинные струны внутри человеческого существа. Они использовали эти истинные струны, пытаясь наполнить человека неправдой.
Вот почему св. Иоанн Дамаскин писал, что Адам впал в грех, устремившись к Богу ошибочным путем. Действительно, мой личный опыт, опыт сербского православного христианина, говорит мне, что дьявол — это очень могущественная сила, обладающая активной способностью привлекать нас. Все это, однако, бледнеет по сравнению с предвидением встречи с Господом, выходящим нам навстречу. Когда со слезами покаяния я обрел этот опыт, — который действительно был опытом горького разочарования даже в своих успехах, — я понял, что дьявол на самом деле очень слаб и что человек сильнее и дьявола, и архангела. И поскольку христианам приходилось жить при режиме, который навязывал себя не только силой, но и соблазнительной идеологией, я понял, почему дьявол в нашей жизни столь агрессивен. Он агрессивен потому, что совсем не уверен, что может победить человека.
В противоположность этому Бог не агрессивен по отношению к нам. Временами он даже отходит от нас, поскольку уверен, что человек влечется к Нему. Любовь не агрессивна, то же самое верно в отношении истины и эсхатологии. Когда мы принимаем эти реальности, мы живем с убеждением, что наша повседневная жизнь есть жизнь вечная. Мы не желаем терять эту уверенность, дарованную нам якорем нашей веры, который, по словам апостола Павла, мы забросили на третье небо. По-настоящему мы были мучимы не просто как индивиды, или народы — греки, сербы или русские, но как те, кто ищет этого якоря исторической уверенности, уверенности в успехе и в действенности.
Жизнь в эсхатологическом времени
В крайнем случае мы понимаем, что Бог показывает нам Свою любовь в том, что мы далеки от успеха, и Он не позволяет нам купаться в нем. Любовь Божия хочет, чтобы мы были свободными, свободными от любого идола. Даже Бог может быть нашим идолом, а худший из всех идолов — это мы сами. Как сказано в покаянном каноне св. Андрея Критского, читаемом в начале Великого поста: «Я сам себе стал идолом». Св. Иоанн Богослов заканчивает свое Первое послание словами: Дети! храните себя от идолов
.
Эсхатологическая позиция православного христианина по отношению к жизни, одновременно литургическая и аскетическая, есть позиция крестной любви, приводящей к воскресению. Воскресение не наступит, если мы не пройдем через опыт распятия. Вот почему эсхатон в нашей повседневной жизни — это не ощущение блаженства на богослужении, оставляющее нам чувство умиротворенности и безопасности. Действительно, религия сама по себе есть достаточно опасное явление. Она может стать оправданием делания неправды, алиби при неверии, подменой крестной любви. Это так потому, что человек может, со всеми безднами, таящимися в его душе, вернуться в самого себя и смотреть на себя как на конечную цель или смысл своей жизни. В этом случае любящий и страдающий Бог просто перестанет для него существовать.
Мы можем вытеснить из нашей жизни Христа, как можем вытеснить Бога бесчисленным количеством божков. Наш эсхатологический опыт, однако, говорит нам, что Мария в Евангелиях была права: только одно нужно для опытного познания Христа — следовать за Ним, как в Апокалипсисе мученики следуют за Христом. Это вовсе не означает, что мы просто становимся сзади и теряем историческую активность. Это не лень, но ожидание. Ожидание продолжающегося крестового похода — но не с силой, а с немощью, данной Богом.
Во всех наших немощах мы должны помнить, что Дух Святой с нами и внутри нас взывает: «Авва, Отче». И в таком эпиклезическом подходе, который есть призывание Святого Духа, в этой одновременно литургической и аскетической ситуации нет большой разницы — кто святые, а кто грешники, кто добродетельные, а кто падшие, кто стоит выше, а кто ниже. Чем отличались друг от друга разбойники справа и слева от распятого Христа? Только тем, что хотя оба они были грешники и оба смотрели в лицо смерти, один из них осознал ее как личную и спасительную. В момент истинного покаяния, эсхатологической эпиклезы, он возопил: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем!»
Это и есть крест — пересечение воспоминания и эпиклезы, библейская диалектика истории и эсхатологии. Но это не диалектика ради диалектики, не диалектика ради какой-то эволюции или революционного изменения, но диалектика распятия и воскресения, диалектика веры и любви.
Я хотел бы закончить мыслью св. Марка Отшельника, которую можно кратко передать так: эсхатологическая перспектива есть невечерний свет нашей жизни. Бог не пошлет нас в ад из-за того, что мы грешники и совершили какие-то конкретные грехи, и не пошлет нас в рай за то, что мы делали добрые дела, но по вере, действующей любовью. Он будет судить нас, или, вернее, мы сами будем себя судить, исходя из нашего ответа на любовь: любовь выходит нам навстречу, любовь продолжает светить нам со стороны «конца», который есть Сам Бог.
Эта позиция, этот открытый ответ на любовь может быть назван эсхатологическим присутствием в нашей повседневной жизни. Но нам тяжело жить таким накалом. Часто, даже будучи христианами, мы предпочитаем определенность, контроль и безопасность, но это суть иллюзии и препятствия для эсхатологического присутствия. По словам одного из величайших отцов Церкви, Иоанна Златоуста: «Когда ты в неуверенности, когда тебе не на что положиться или опереться, тогда ты, парадоксальным образом, наиболее устойчив, поскольку только Господь есть твоя опора и твоя крепость». В этом нет ни безнадежности, ни страха. Это скорее похоже на открытость, которую один ребенок имеет к другому ребенку, или ребенок к своим родителям, когда он знает, что любим, поскольку сам любит.
Многие дети, поистине, просто наполнены такой любовью. Она дарит им сладость и радость, и когда они станут взрослыми, их любовь неизбежно встретится с опытом креста. И если они останутся верными в своей любви и пройдут через жестокий опыт креста и воскресения, то вновь обретут детскую открытость. Тогда они будут жить в эсхатологическом времени.
Перевод А. Быкова, С. Зайденберга
* Metropolitan Athanasios of Hercegovina. The Eschata in Our Daily Life. Опубликовано с разрешения издателей по: Living Orthodoxy in the Modern World. Edited by Andrew Walker and Costa Carras, London, 1996, с. 37–49.
Митрополит Афанасий (Зоран Евтич) родился в 1938 г. в Брдарице, в центральной Сербии. Окончил в 1960 г. семинарию св. Саввы в Белграде и сразу был пострижен в монахи о. Иустином (Поповичем). Далее его учеба проходила в Афинском университете, тема его докторской диссертации — Экклезиология апостола Павла согласно Иоанну Златоусту. С 1968 по 1972 г. — профессор Свято-Сергиевского института в Париже, с 1972 г. заведует кафедрой патристики и церковной истории Богословского факультета в Белграде, активно участвует в публичных дискуссиях, публикациях и радио- и телевещании, особенно в диалоге со сторонниками марксизма и материализма. Был рукоположен в епископа Баната в Воеводине и с 1992 года переведен на служение в Герцеговину. Митрополит Афанасий — автор ряда книг, изданных в Югославии и Греции, включая Радостный Свет и Христос: Начало и Конец.