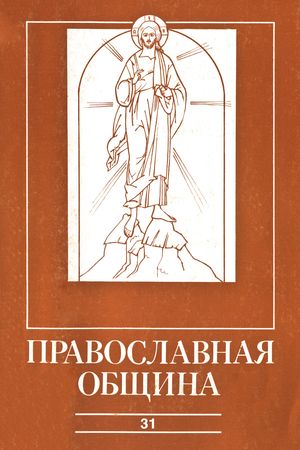Стихи
Рождественская звезда
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы — Бальтазар, Каспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
24 декабря 1987
Бегство в Египет
В пещере какой ни на есть, а кров
надежней суммы прямых углов,
в пещере им было тепло втроем.
Пахло соломою и тряпьем.
соломенною была постель.
Снаружи молола песок метель.
И, припоминая его помол,
спросонья ворочались мул и вол.
Мария молилась. Костер гудел.
Иосиф, насупясь, в огонь глядел.
Младенец, будучи слишком мал,
чтоб делать что-то еще, — дремал.
Еще один день позади с его
тревогами, страхами, с «иго-го»
Ирода, выславшего войска,
и ближе еще на один — века.
Спокойно им было в ту ночь втроем,
дым устремлялся в дверной проем,
чтоб не тревожить их.
Только мул во сне — или вол — тяжело вздохнул.
Звезда глядела через порог.
Единственным среди них,
кто мог знать, что взгляд ее означал,
был младенец. Но он молчал.
декабрь 1995 г.
Сонет
М.Б.
Прислушиваясь к грозным голосам,
стихи мои, отстав при переправе
за Иордан, блуждают по лесам,
оторваны от памяти и яви.
Их звуки застревают (как я сам)
на полпути к погибели и славе
(в моей груди), отныне уж не вправе
как прежде доверяться чудесам.
Но как-то глуховато, свысока,
тебя, ты слышишь, каждая строка
благодарит за то, что не погибла,
за то, что сны, обстав тебя стеной,
теперь бушуют за моей спиной
и поглощают конницу Египта.
Август-сентябрь 1964 Норенская
Из стихотворения «От окраины к центру»
… Не до смерти ли, нет,
мы ее не найдем, не находим.
От рожденья на свет
ежедневно куда-то уходим,
Словно кто-то вдали
в новостройках прекрасно играет.
Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.
Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и полны темноты,
и полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.
Как легко нам дышать,
оттого, что подобно растенью,
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью
или больше того –
от того, что мы все потеряем
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.
… То, куда мы спешим,
этот ад или райское место,
или попросту мрак,
темнота, это все неизвестно,
дорогая страна,
постоянный предмет воспеванья,
не любовь ли она? Нет, она не имеет названья
1962 г.
Диалог
« Там он лежит, на склоне.
Ветер повсюду снует.
В каждой дубовой кроне
сотня ворон поет ».
« Где он лежит, не слышу.
Листва шуршит на ветру.
Что ты сказал про крышу,
слов я не разберу ».
«В кронах, сказал я, в кронах
темные птицы кричат.
Слетают с небесных тронов
сотни его внучат».
« Но разве он был вороной:
ветер смеется во тьму.
Что ты сказал о кронах,
слов твоих не пойму ».
«Прятал свои усилья
он в темноте ночной.
Все, что он сделал: крылья
птице черной одной».
« Ветер мешает мне, ветер.
Уйми его, Боже, уйми.
Что же он делал на свете,
если он был с людьми ».
«Листьев задумчивый лепет,
а он лежит не дыша.
Видишь облако в небе,
это его душа».
« Теперь я тебя понимаю:
ушел, улетел он в ночь.
Теперь он лежит, обнимая
корни дубовых рощ ».
«Крышу я делаю, крышу
из густой дубовой листвы.
Лежит он озера тише,
ниже всякой травы.
Его я венчаю мглою.
Корона ему подстать».
«Как ему там под землею».
« Так, что уже не встать.
Там он лежит с короной,
там я его забыл ».
«Неужто он был вороной».
«Птицей, птицей он был».
6 июня 1962 г.
* * *
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
24 мая 1980 г.
Из цикла «осенний крик ястреба»
* * *
Как давно я топчу, видно по каблуку.
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.
То и принято в громком кукареку,
что звучит как вчера.
Но и черной мысли толком не закрепить,
как на лоб упавшую косо прядь.
И уже ничего не снится, чтоб меньше быть,
реже сбываться, не засорять
времени. Нищий квартал в окне
глаз мозолит, чтоб, в свой черед,
в лицо запомнить жильца, а не,
как тот считает, наоборот.
И по комнате, точно шаман, кружа,
я наматываю, как клубок,
на себя пустоту ее, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.
(1984–1985)