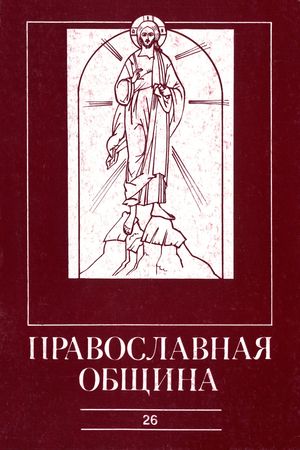Проблема зла в мире и пути борьбы с ним
У нас всех есть мучительное ощущение страшного роста зла, наличность которого так бесспорна, но все же не должна закрывать перед нами другого факта: бесспорного роста добра в мире. Для христианина трудно, даже невозможно, конечно, быть оптимистом в обычном смысле слова, но нельзя забывать, что рядом с чрезвычайным и даже непонятным ростом зла, бесспорно идет рост добра; только добро молчаливо и большею частью нами забывается.
Оно очень часто совсем невидимо, оно еле отмечается в ближайших кругах и совсем не замечается издали, но реальность добра в современном мире, так же велика, как страшен и неожидан рост зла. Люди, которые сейчас побывали в разных лагерях, могут рассказать об этом диковинные вещи. Когда люди приходят служить благодарственные молебны и рассказывают, как они спаслись от смерти, то становится ясна реальность и сила добра в мире. Поэтому надо беречься одинаково и крайнего пессимизма, к которому нас толкает современная жизнь и того близорукого оптимизма, который считает незначительным то зло, которое происходит.
Эти две крайности, которые одинаково не могут быть защищаемы. Та же позиция, к которой нас влечет христианское миросозерцание может быть названа трагическим мироощущением: мы видим и страшную глубину зла и не теряем веры в добро.
Трагичность жизненного процесса, трагичность того, что происходит в истории есть основное ощущение, которое диктует нам христианство, наша общая позиция. Можно сказать, что трагический подход к пониманию жизни далек как от давящего чувства рока, непреодолимой судьбы, которая владеет всем — так и от поверхностного оптимизма.
Как часто люди то не замечают Голгофу, останавливаясь на светлом факте Воскресения, то за Голгофой не видят Воскресения. Конечно, надо признать, что трагическая установка духа вообще трудна, почти не по силам нашему уму: охватить всю сложность переживаемых фактов не только трудно для ума, но еще труднее оставаться на линии трагедии. Быть «героем» трагедии удается немногим, обычно мы превращаем трагедию в драму или даже мелодраму; для того, чтобы быть «героем» трагедии, нужно иметь много силы и мужества. Мы находимся, однако, все на положении «героев» трагедии и, чтобы остаться «героем трагедии», надо с достоинством и глубиной принимать свой путь, иначе мы впадаем в безнадежный пессимизм. Надо иметь бесстрашие духа и совести, чтобы стать на эту позицию, чтобы сохранить в себе трагическое восприятие истории, к тому же мы не можем сосредоточиваться на одной только нашей сегодняшней буре, но должны заглянуть в самый корень того, что происходит в необычайной глубине мирового зла.
Особенно надо иметь мужество совести, чтобы заглянуть в глубину зла, сознать наше участие в нем, нашу вину.
Пока мы думаем, что кто-то другой виноват — мы еще не осознаем всей трагичности истории, ибо лишь тот проходит подлинную трагедию, кто осознает свою вину.
Тут нужна большая сила духа и совести, нужна честность сознания того, чтобы отдавать себе отчет во всем том, что мы называем злом современности, почувствовать нашу ответственность за него.
Зло растет в мире ныне в такой страшной прогрессии, какой еще по истине не было видно в мире. Конечно, и раньше в истории было много ужаса, невероятного торжества зла, но все-таки, есть достаточно оснований думать, что такого обилия и такого страшного роста зла еще не бывало. Может быть самое страшное из всего этого атомная бомба, которая будучи с одной стороны следствием великих успехов в науке, вместе с тем является страшным симптомом того, что и наука служит уже открыто и без колебаний торжеству зла и смерти.
Страшно то, что могучее развитие знаний в последнее время привело к таким последствиям. Рост знания является одной из самых светлых сторон в движении человеческого духа и можно было надеяться, что торжество науки, торжество образования, знания постепенно будут смягчать всю остроту нашей неустроенности. Если можно было раньше на что-либо рассчитывать, то именно на науку — это казалось была «твердая скала». И вот эта самая основа нашей веры в прогресс, она-то и предала!
Знание (об этом давно уже говорили) служит гораздо больше злу, чем добру. Ученые, оставаясь лично добрыми людьми, уверяют нас, что из жалости к человечеству они выдумали эти страшные орудия; будто бы из-за этого война станет невозможной в будущем. Может быть изобретатели бомб, снарядов, газов, в самом деле одушевлены надеждой, что чем страшнее оружие, тем больше шансов, что войны не будет, но фактически сила знания оказалась во власти злых сил — это очень зловещий факт.
Куда же дальше может двинуться техника, если она окажется к услугам зла?
Нас уверяют, что собственно все эти открытия гораздо больше послужат хозяйственному прогрессу, интересам жизни, чем интересам разрушения.
Несомненно, какую-то маленькую пользу извлечет хозяйство из всех открытий, но страшное зло будет извлекаться из него в безграничном количестве. То, что техника стала бесспорным орудием зла, есть очень роковой факт, потому что каждое изобретение влечет за собой новые изобретения, новые исследования.
Ученые всего мира продолжают свои злые исследования, и в разных частях мира теперь существуют, например, специальные комиссии, которые должны изучать разложение атома.
С другой стороны, если вы читаете и следите за процессом Нюрнбергским, нельзя не признать, что перед нами нечто чудовищное. Нельзя было даже вообразить того, что из обвинительных актов открывается. Выступает чистое зло, не то зло, которое кажется необходимым в процессе борьбы, — нет, здесь налицо бесцельная жестокость, массовое уничтожение людей, обречение их на голод, на смерть, без всякой пользы для тех целей, с которыми была связана война.
Конечно, перед нами подлинная идеологическая буря, которая влечет за собой уничтожение людей, перед нами подлинный взрыв дьявольской злобы.
В нашей стране миллионы людей зря погибали, — и здесь налицо была та же дьявольская злоба, которая владеет массами. Государство, о ценности которого так много писали в середине и начале XIX века, дошло ныне до таких тиранических форм и вместе с тем таких уже безжалостных, циничных действий, что может быть это еще страшнее атомной бомбы. Бомба есть нечто иное, использование сил природы, а здесь мы имеем человеческую волю, до конца охваченную страстью к разрушению.
Все эти явления говорят нам о том, что может быть мы имеем сейчас только начало настоящей исторической бури, что человечество вступило в очень страшный период истории.
Если Вы сейчас читаете газеты, то узнаете о бесконечном переселении людей из одной страны в другую. Они теряют все, что у них было, но прежде всего гибнут дети, ибо всюду развиваются эпидемии. Война кончилась, а уничтожение людей продолжается, причем не в меньшем размере, чем во время войны. Мы находимся и может быть даже еще не в зените, не в самой высокой точке мирового зла. Зло растет, и этот рост зла ставит вопрос какой же смысл всего этого?
Этот вопрос неотвратим вообще, но особенно он мучителен для христиан, так как мы дорожим идеей Промысла, мы верим, что Господь определяет пути истории.
Каждый человек, серьезно переживший нынешние события, уже не может совсем отстранить этой идеи. Человеческий дух слишком глубок для того, чтобы нынешние факты считать исторической случайностью. Среди слепого «бессмысленного» хода природы, один человек подчинен кроме природы какой-то высшей силе, как была минимальна идея Промысла, она остается единственной нашей опорой.
Если верна римская поговорка «Пока дышу, надеюсь», то смысл этой надежды в том, что обидное и мучительное торжество зла когда-нибудь кончится, что правда и добро еще вернутся на землю.
Идея Промысла и проявляется прежде всего в надежде. Пока мы живем, мы все надеемся, что когда-то откроется смысл жизни, когда-то страдания покроются благостным итогом. Идея Промысла может быть переносима в загробную жизнь, но все равно, самая жизнь освящается надеждой на то, что хотя бы в другом мире торжествует добро.
Если бы этот мерцающий свет надежды погас, жить стало бы невозможно. В общем должно признать, что надежда никогда человека не покидает: если временами свет и уходит, то тогда наступает чувство богооставленности, состояние отчаяния. Поэтому в личной жизни идея Промысла неистребима, она держится в самых бессознательных глубинах души.
При виде, однако, того, что совершается с другими людьми, идея Промысла бледнеет, вид чужих несчастий, роковые сцепления обстоятельств, наполняют нас такой болью, что становится трудным верить в Промысел. Давно было указано, что сострадание тяжелее страдания. Сострадание сжимает сердце с такой силой, что трудно жить, и мы предпочли бы часто умереть, чем видеть чужие страдания, хотя бы наша личная жизнь была бы сносна. Отсюда и рождается то состояние духа, которое так ярко выражено в Иване Карамазове: «Я не Бога не принимаю, я мира не принимаю».
Мне сказал недавно один человек: «Мне стало противно жить, я не могу больше читать газет, выносить того, что они приносят. Я лучше закроюсь, все окна закрою от того, что происходит». Это состояние невозможности выносить зло означает, что сердцу уже нечем переживать ужасы жизни. Но еще все это мучительнее, если мы переходим к историческому бытию, здесь еще труднее усмотреть Промысел Божий.
В жизни отдельного человека есть, конечно, много непонятного, но оттого, что это лишь отрывок жизни. Если бы мы знали, что будет за гробом, с этой душою, нам бы открылся смысл страданий этой души на земле. Для религиозного сознания индивидуальные судьбы освещены загробным периодом жизни и потому они освещаются верою в Бога, но когда мы обращаемся к исторической судьбе народа, к истории, то это становится гораздо труднее.
Конечно, нам хочется думать, что Промысел в истории не менее действителен, чем в жизни отдельного человека.
Странно и страшно, что в истории (особенно в наше время) даже положительные явления в силу какого-то извращения стали проводниками зла. Возьмем, например, национальное сознание — это очень высокая и ценная сила. В национальном сознании человек начинает жить в более широкой атмосфере, чем раньше, он воодушевляется идеей народа, находит в себе новые силы. В этом есть какое-то возвеличение духа человеческого, есть неисчерпаемая сокровищница для духа. Развитию национального сознания мы все очень обязаны. Но увы, как раз эта великая сила духа привела к страшным вещам в истории: национальное чувство ныне становится источником страстей, горделивой мечты подавить другие народы и господствовать над ними, превратить их в рабов. Может быть эта болезнь есть специфическое свойство высокой культуры, ведь она появляется только тогда, когда созревает сознание мощи народа, когда накопляется сила народная.
Возьмем другую область — что может быть выше мысли о тех бедных людях, к которым судьба не была жалостлива, кого она придавила? Это мысль самая возвышенная — это любовь к брату. Отсюда родилось много светлых явлений в истории — подлинный социальный идеализм. Но социальный идеализм уже давно стал облекаться в революционные формы, от которых поднимаются кровавые призраки — увы, революция не бывает без крови! Великая идея, социальный идеализм перерождаются в идею насильственного переворота, — и уж тогда нет никому пощады, идея добра подменяется идеей будущего рая на основе революции.
Возьмем идею государства. Напомню идеологию государственности Фихте, Гегеля. Это было очень высокое, чисто моральное понимание государства, но рост государственности привел к тирании, власть теперь вмешивается решительно во все, подавляет свободу не только слова, но и мысли. Если узнает правительство о том, что вы думаете не так, как ему «нужно» — то вы уже подозрительный человек, потому что вы мыслите не так, как диктатор.
Теперь не стали даже удивляться тому, что государство присваивает себе такие функции. А между тем государственность сама по себе есть великое достижение истории, настоящее творчество «объективного духа», потому что государство есть духовный организм.
Вот и приходится констатировать, что такие великие вещи, как любовь к ближнему, государственность, национальное чувство, все это оказывается источником заразы, проводником зла. Таким образом надо сказать: современный культурный мир в целом настолько болен, настолько неизлечимо болен, что он не может прогрессировать в сторону добра. Сомнение в том, что в истории действует Промысел, становится как будто оправданным. Что на это сказать?
Я не буду касаться вопроса так называемой «теодицеи» — т. е. обвинения, предъявляемого Богу человеческим сознанием («зачем мир создан так, что в нем возможны те явления, которые происходят» — и т. п.).
Самый вопрос такой — уже есть бунт против Бога, особенно когда начинают говорить, что Бог «занят небом, не землей», что «история отдана на откуп дьяволу». Этого вопроса, очень больного и острого я не буду сейчас касаться, равным образом я не буду касаться тех высказываний, которые сводят зло к торжеству язычества, вообще не буду касаться современного «обличительного радикализма».
Очень часто наше христианство переходит в обличение современного язычества — это вполне естественно, ибо всякий свет прогоняет тьму; поэтому христианскому сознанию так естественно обличать неправду. Такой обличительный радикализм однако особенно характерен для нашей стадии христианского сознания. Ведь нет ничего легче и проще христианину, как обличать современную неправду, ибо она всем ясна. Не возражаю против этого, но скажу, что христианство нужно миру, не потому что оно обличает, а потому, что оно спасает его. Где же те положительные указания, которые христианин может получить? Этим я хотел бы заняться сегодня, это вопрос победы над злом, а не обличения зла — и это вопрос победы правды над неправдой.
Возможна ли христианину победа над злом; или иначе, что христианину делать сейчас перед лицом зла, которое есть в мире?
Прежде всего нам нужно объявить какой-то крестовый поход под знаменем покаяния. Нет чужой вины, есть наша общая вина в том, что происходит; Достоевский прав, что все виноваты за всех, да и трагедия нынешнего дня есть трагедия вековая, потому что мы все здесь виновны. Важно сознать это, важно покаяться в нашей холодности и бессилии, ведь если бы в нас была христианская сила, то зло не могло бы так торжествовать, как оно торжествует ныне. Это есть обличение нашей слабости, тот суд, который должен начаться от нас самих, ибо Господь начнет суд от Церкви. Поэтому и мы сами должны первые сознать свое соучастие в современной неправде. Это очень трудно вместить в души, каждый готов спросить себя насколько все это не мнимо, не фантазия, разве мы ответственны за неправды мира? Есть тысяча мелких вещей, которые мы наделали, за которые мы ответственны, но все это мелкие вещи, они могут относиться к моим соседям и близким, но не к мировому историческому страшному бедствию.
Какое отношение могли иметь мои грехи к мировой неправде? Тут есть нечто непропорциональное, тут есть какое-то несоответствие. Поэтому очень трудно принять эту идею общего покаяния в качестве внутреннего переживания. Но если мы до него не доберемся, мы едва ли сможем заглянуть в глубину мировой трагедии, потому что покаянием начинается христианское самосознание. Пока мы не дойдем до этой позиции покаяния, мы не найдем правильного отношения к трагедии мира, — мы эту трагедию действительно так часто превращаем «в мещанскую драму», лишенную того величия, которое в ней скрыто. Чтобы быть с «веком наравне», понять смысл нашей эпохи, для этого нужно прежде всего до глубины заглянуть в ее трагедию. А без покаяния в своей вине можно ли правильно понять трагедию мира?
Обличать зло мира, выявлять его неправду не надо много труда, но чтобы до конца понять, в чем трагедия мира, для этого нужно покаяние.
Тут возникает вопрос, насколько для нашего сознания этот путь еще открыт. Можем ли мы не просто констатировать зло, но понять, как глубоко идут его корни?
Тут нужно глубоко в самом себе копать. Кстати отметим, что люди святой жизни считали себя такими тяжкими грешниками, какими мы себя никогда не считаем. Почему было это у святых людей? Почему чувство мировой вины у них усилилось от их святости? Конечно, потому что когда человек свободен от мелких грехов, тогда выступает перед ним вся темная глубина первородного греха. Нужно поэтому сказать, что пока мы не дойдем до сознания нашей ответственности за мировое зло, т. е. до сознания, что мы тоже виноваты в нем, что мне нужно начинать с того, чтобы лечить самого себя — до тех пор мы не найдем и путей к исцелению мира.
Это звучит педантично, вроде наставления детям, но это является подлинной истиной. Если мне удастся овладеть своими страстями или, по крайней мере, тем рычагом, который мог бы остановить их развитие, тогда откроются для меня иные пути жизни.
Исцеление мира идет через человека. Я не хочу этим отвергать полезность разнообразных социальных реформ, но думать, что этим что-нибудь делается для мировой болезни — невозможно. Дай Бог всем получать больше денег, чтобы всем хватало пропитания, всем обеспечить тепло, все эти основные вещи, дай Бог чтобы они были, но это не изгладит зла.
Оно таится в глубине души и никакие социальные реформы не могут изгнать его. Не случайность для современной эпохи то, что театры стали суррогатом церкви: действительно для театра у нас всегда найдется время, а для церкви времени нет.
Это явление, конечно, трагического порядка; а то что театр становится суррогатом церкви, это связано с потребностью быть там, где много людей, где масса.
Это странная и новая функция театра, которая несомненно связана с упадком вкуса к Церкви. Театр начинает играть новую религиозную роль, в нем есть пафос, а душе человеческой нужно чем-то восхищаться, верить в то, что жизнь будет лучше. Человеку нужен пафос, душе невозможно жить без того, чтобы она горела, чтобы она была согрета энтузиазмом — такова природа человеческой души.
Но единственное настоящее обновление мира может придти лишь через оживление христианства, — наше же «одиночное» христианство, хотя сливается с другими в невидимый фонд добра, но мира не меняет.
Тургенев однажды высказал такую мысль: «Я глубоко верю, что никакое движение добра в мире не пропадает». Все что есть доброе в мире, как бы оно ни было ничтожно, действительно складывается в некий невидимый фонд добра. Этот фонд добра растет, и потому и «одиночное», скрытое, интимное обновление души во Христе идет в общую сокровищницу. Но все это остается невидимым, лишенным силы Христовой.
Чтобы явить силу христианства, нужна христианская общность, христианские общежития — не знаю как это назвать лучше. Думаю, что если христианские общежития возможны, если возможны островки христианской культуры, то они будут подобны монастырям, т. е. будут построены на принципе иерархии.
Кто живал в монастырях, тот знает, что в монастырях идет общая жизнь, иерархически построенная, и это дает стройный аккорд, получается удивительное единство. Мы стоим перед возможностью, необходимостью, чтобы люди, которые хотят перестроить по-христиански свою жизнь, захотели соединиться вместе и построить общую жизнь на началах братства, образовать из нескольких семей одну общую семью. Это, конечно, предполагает общее одушевление, жажду найти путь совместной доброй жизни.
Для этого нужна огромная сила любви; у нас нет других христианских средств, ибо нужна нам не сила слова, а сила любви прощающей. Это путь новый, трудный, но как же нам решить мировую проблему, если не сможем решить ее в размерах общежития?
Христианство есть подлинная сила, но эта сила вся связана со способностью любить людей, прощать их недостатки и в то же время искать добра и правды. Это крест, ибо прощать — самая трудная вещь.
Бесконечно трудно соединить любовь к правде, строгость к самому себе с прощением чужих слабостей, идти к людям с прощающей любовью. Оттого так трудно жить людям друг с другом.
Мне кажется, что проблема христианской культуры потому так трудна, что мы не умеем жить вместе, общно. Мы все не с того конца начинаем, все ищем внешних реформ и на них надеемся. Конечно, дай Бог всем много денег, товаров, продуктов, дай Бог всем здоровья, но все это нас ничуть не подвигает к решению вопроса о торжестве зла в мире.
Позвольте закончить одним личным воспоминанием. Однажды, когда я уезжал из Белграда на два месяца, туда приехал один профессор, чтобы занять кафедру в университете. Я предложил ему временно остановиться у меня, пока он найдет себе квартиру. Возвращаюсь домой, оказывается он у меня в квартире. Квартира моя небольшая, всего одна комната. Мой профессор, видя некоторое мое недоумение, говорит: «Мне очень хорошо здесь у вас», но мне-то вдвоем не очень хорошо! Должен сказать, что я бунтовал долго. Мой коллега был старше меня, и вот я решаю, что раз он не хочет покидать моей комнаты, я найду себе другую. Коллега мой был с причудами, да и комнатка маленькая. В ней едва помещался один столик. Но когда я решил съехать, мне вдруг стало стыдно, что я не могу ужиться с коллегой. Я остался жить, — и вот мы сдружились так близко, жили так хорошо, как дай Бог всякому. Я думаю, что действительно нет другого решения, как принять сложившееся положение. Мне казалось, что будут трудности ужиться в одной комнате, А оказалось, что вышло из этого одно добро. Я хорошо, конечно, понимаю всю реальную трудность христианских общежитий, понимаю, как трудно принимать общую совместную жизнь при различии вкусов, привычек, всего стиля жизни. Да, это так, но в возможности христианских общежитий и таится ключ к исцелению мирового зла.
Если бы какая-нибудь группа христиан захотела ужиться вместе, если бы попробовала и добилась этого, то мы бы увидали, что именно в этом лежит путь к христианскому обновлению и всего мира. Лишь через приятие людей и любовного отношения во мне, растворятся те перегородки духовные между людьми, которые не могут быть сняты никакими внешними реформами, а между тем победа над злом, преодоление мировой трагедии в том и заключается, чтобы восстало между людьми чувство братства.
В осуществлении братства в общежитиях, в этих своеобразных монастырях, объединяющих семейных людей, и лежит та правда, какую возвещает нам христианское чутье перед лицом всеобщего озлобления и ненависти.